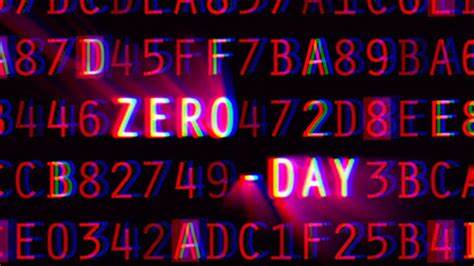Эволюция кожных структур у рептилий всегда представляла собой одну из ключевых загадок палеобиологии. Несмотря на то, что современные представители класса амниот обладают множеством различных кожных выростов — от чешуи до перьев и волос, понимание их происхождения остается неполным, особенно когда речь идет о самых ранних этапах их развития. Недавнее открытие нового триасового диапсида Mirasaura grauvogeli, найденного в отложениях возрастом около 247 миллионов лет, значительно расширило наши знания в этой области. Это животное демонстрирует необычайно сложные кожные придатки, что свидетельствует о ранней диверсификации кожных структур у рептилий и меняет традиционные представления об их эволюционной истории. Этот рептилий относят к группе Drepanosauromorpha, которая была известна прежде преимущественно по позднетриасовым окаменелостям.
Mirasaura же расширяет хронологические рамки этого таксона, уводя их происхождение на 20 миллионов лет глубже во времени. Mirasaura grauvogeli отличается небольшим размером и уникальной морфологией кожных выростов, расположенных вдоль спины. Эти выросты образуют высоко развитый гребень, состоящий из ряда удлинённых, плоских и двусторонне симметричных структур, ширина и форма которых меняется вдоль тела. Под микроскопом выявлены мельчайшие пигментные структуры — меланосомы, форма которых совпадает с геометрией меланосом птичьих перьев, но не соответствует той, что характерна для чешуи рептилий или волос млекопитающих. Это открытие особенно примечательно, поскольку оно указывает на высокую сложность кожных структур у диапсидов на самом раннем этапе их эволюции.
Проведённый анализ позволяет установить, что кожа Mirasaura содержит специализированные клетки, отвечающие за пигментацию подобно тем, что встречаются у современных птиц, однако построение самих кожных выростов отличается от перьев. Эти придатки являются плоскими, не имеют филиалов и не образуют оперение в привычном нам виде. Такая атрибутика ранее была известна лишь у некоторых представителей рода Longisquama insignis, загадочного рептилия из позднетриасовых отложений Киргизии, однако сомнения в достоверности этой интерпретации и ограничения по сохранности отложений долго не позволяли убедительно сравнить эти таксоны. Филогенетический анализ на основе детальной сравнительной морфологии поставил Mirasaura в тесное родство с Longisquama в пределах Drepanosauromorpha — группы необычных триасовых диапсид, которые не входят напрямую в группу Sauria (современных рептилий). Это открытие опровергает распространённое мнение о том, что сложные кожные придатки в эволюции амниот ассоциируются исключительно с линиями, ведущими к птицам и млекопитающим.
Mirasaura и Longisquama демонстрируют, что подобные структуры развивались и вне этих ветвей, что указывает на более древние и широкие эволюционные корни сложной кожной морфологии у рептилий. Особенностью Mirasaura является также строение черепа, которое кажется внешне сходным с черепами птиц и птерозавров, что подчёркивает разнообразие формический облик диапсид того времени и перекрытия морфологических признаков между различными группами. Удлинённый и узкий рострум, большие переднеориентированные глаза и куполообразный свод черепа — все эти признаки указывают на сложный образ жизни и высокую адаптивность этого рода. Отсутствие зубов в передней части челюстей и тонкие заострённые зубы сзади соответствуют гипотезам о питании мелкими беспозвоночными, что, вероятно, связано с их ночным или сумеречным поведением и обитанием в лесистой или кустарниковой местности. Уникальные структуры кожных выростов Mirasaura имеют двустороннюю симметрию, где каждый вырост состоит из трёх продольных полос у основания и расширяется к концу, превращаясь в две пластинки с центральной срединной структурой, что делает их внешний вид одновременно изящным и функционально сложным.
Эти выросты, скорее всего, не использовались для полёта или теплоизоляции, учитывая их единичное расположение вдоль спинного отдела и отсутствие признаков ветвления, характерного для перьев. Предполагается, что они служили для визуальной коммуникации внутри вида, возможно, использовались для демонстрации или отпугивания хищников. Анализ пигментного состава подтверждает, что кожные выросты были окрашены с помощью меланина, что может говорить о наличии ярких визуальных знаков, важных для социальной коммуникации. Использованные передовые методы, включая сканирующую электронную микроскопию и синхротронное сканирование с фазовым контрастом, позволили увидеть мельчайшие детали структуры и химического состава мягких тканей, что ранее было почти невозможно из-за хрупкости и нечастого сохранения таких органов в ископаемом состоянии. Данные открытия подчёркивают, что средний триасовый период, спустя около десяти миллионов лет после массового пермского вымирания, был временем активного экспериментирования эволюции кожи и её выростов у рептилий.
Предшественники современных групп, а также уникальные линии, такие как Drepanosauromorpha, обладали уже сложными кожными системами, что говорит о том, что биологические функции, для которых развивались эти выросты, были разнообразны и нацелены не только на защиту и теплоизоляцию. Эти результаты представляют новый вызов традиционным взглядам на историю возникновения перьев и волос, связывая появление сложных структур с гораздо более ранним периодом, нежели считалось ранее, и демонстрируют независимое возникновение ряда сложных кожных адаптаций в различных линиях амниот. Такие находки помогают лучше понять, как генетические механизмы, участвующие в образовании кожных придатков, могли развиваться и дифференцироваться, создавая необъятное разнообразие форм и функций в долгой истории эволюции рептилий. Важность открытия Mirasaura grauvogeli заключается не только в расширении знаний о триасовых диапсидах, но и в показе того, что базальные линии рептилий — те, что не принадлежали к современным видам — обладали собственной уникальной эволюционной динамикой. Эти результаты подчеркивают необходимость пересмотра филогенетических моделей и расширения поиска ископаемого материала, способного пролить свет на малоизученные этапы истории амниот и их кожных структур.
Кроме того, Mirasaura отличается комплексным строением позвоночного столба и черепа, что дает представление об адаптациях для жизни на деревьях и об образе жизни, связанном с ловлей насекомых. Его длинное тело с выраженным «горбом» в районе передней части спины, наличие больших подушечек на когтях и особенности скелета свидетельствуют о высокой маневренности и специализированных условиях обитания. Вероятно, наличие кожного гребня усиливало визуальное восприятие животного, делая его легче заметным для сородичей. Таким образом, открытие Mirasaura распахивает двери для пересмотра общих концепций о том, как и когда сложные кожные придатки развивались у рептилий. Эти данные указывают, что раннее разнообразие кожных структур среди амниот было гораздо более богатым, нежели предполагалось.
Кроме того, они показывают, что подобные структуры развивались в разных эволюционных линиях параллельно, что имеет важное значение для понимания развития саморегуляторных генетических сетей и возможности конвергентной эволюции сложных органов. В целом, новейшие исследования Mirasaura grauvogeli свидетельствуют о том, что триасовый период был не только временем восстановления биоты после глобальных катастроф, но и эпохой значительной инновационной активности среди рептилий. Раннее разнообразие кожных выростов отражает сложные биологические и экологические процессы, формировавшие будущее современной фауны и заложившие фундамент для появления таких развитых кожных структур, как перья и волосы, намного позже. Ключевые положения, вытекающие из изучения Mirasaura, лежат в области палеоэкологии, эволюционной биологии и сравнительной анатомии, и представляют значительный интерес для ученых, изучающих историю жизни на Земле, а также для широкой публики, стремящейся понять процессы, которые сформировали разнообразие живых организмов, населяющих планету сегодня.