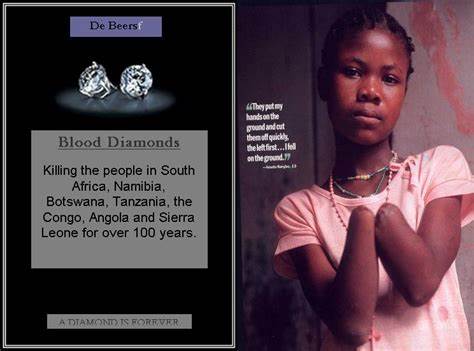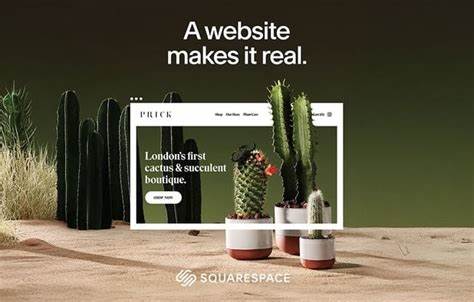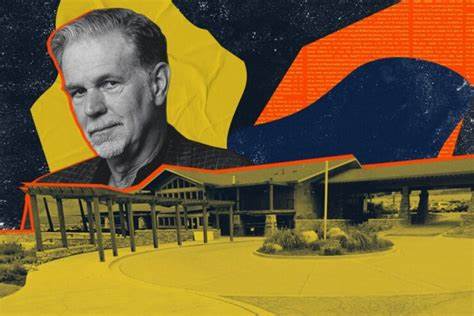Запуск первого искусственного спутника Земли — Спутника — в 1957 году стал настоящим шоком для Соединённых Штатов. Этот момент ознаменовал начало острой технологической конкуренции, что повлекло за собой целый комплекс государственных мер: рост финансирования образования в области науки и математики, создание новых организаций, например, ARPA, увеличение федерального финансирования исследований и разработок, либерализацию иммиграционных правил, а также снижение торговых барьеров. Важно отметить, что подобная системная и масштабная государственная реакция позволила США не только догнать, но и опередить СССР в космической гонке, что имело стратегическое значение в период Холодной войны. Однако параллельная ситуация в 2020-х годах — момента, обозначенного как «DeepSeek» — показывает почти обратное поведение. DeepSeek здесь символизирует развитие ИИ в Китае и его вызовы, которые должны были бы спровоцировать аналогичный ответ.
Вместо этого США демонстрируют осторожность, закрытость и даже частичный откат. Почему же реакция столь разная? Ответы исследуются с разных точек зрения, причем наибольшее внимание уделяется феномену нулевой суммы. Понятие нулевой суммы подразумевает мир, в котором выигрыш одной стороны неизбежно означает проигрыш другой. В контексте международной конкуренции и экономики этот подход формирует отношение, где успех других воспринимается как угроза собственному благосостоянию и статусу. Сегодня в американском обществе наблюдается значительный рост таких настроений.
Нулевая сумма стимулирует поддержку торговой защиты и протекционизма, создает оппозицию к иммиграции, усиливает недоверие и враждебность по отношению к университетам и научным исследованиям, которые воспринимаются не как общественное благо, а как развитие элиты за счет простых граждан. Эта тенденция ведет к снижению финансирования науки и сокращению мер, способствующих инновациям. Возникает парадокс: вместе с растущей угрозой со стороны Китая, а именно его экономическим и технологическим рывком, США входят в состояние все большей внутренней фрагментации и нежелания открыто конкурировать. Некоторые исследователи связывают этот сдвиг и с демографическими изменениями. Средний возраст избирателей вырос с 30 лет в 1950-х до около 39 лет сегодня.
Стареющее население вкупе с растущим многообразием и изменением социального состава электората делает общество менее склонным к рискам, более закрытым и озабоченным собственной стабильностью. Вместе с тем, эта теория не полностью отражает картину, ведь доказано, что часть электората является агрессивной и поддерживает резкие политические перемены, которые нельзя назвать консервативными или осторожными. Еще одной значимой причиной считается снижение политического и фискального пространства у государства. Политика «государства войны и социального обеспечения», в которой бюджеты расходуются на военные и социальные нужды, ограничивает возможность государства активно инвестировать в технологическое развитие и образование. Вот поэтому и нет ощущения необходимости «вернуться на Луну», как это было в эпоху Спутника.
Однако важнее не отсутствие возможности, а утрата желания и понимания необходимости этих амбициозных проектов. Социальное и экономическое окружение снизило мотивацию к масштабным государственным программам развития. Стоит отметить и роль крупных корпораций. В современном мире именно они зачастую являются главными двигателями технологического прогресса. Компании вроде OpenAI, Google и Microsoft инвестируют сотни миллиардов долларов в развитие ИИ.
Государство, в отличие от эпохи Холодной войны, отошло на второй план, выполняя скорее регулятивную и поддерживающую роль, нежели директивную. Это ставит вопрос об изменении самой природы гонок за технологическое превосходство – из государственного состязания они трансформировались в корпоративное соперничество с ограниченным участием или поддержкой государства. Китай, в свою очередь, строит свою стратегию опираясь на сочетание жесткого государственного управления, индустриальной политики, субсидий и масштабных инвестиций в ключевые сферы, включая электроэнергетику. Китай стал крупнейшим мировым экспортером, производителем и потребителем электроэнергии, что обеспечивает его технологические амбиции. Эта экономическая мощь делает конкуренцию с ним особенно сложной и многогранной.
Необходимо также понимать, что противостояние с Китаем по своим масштабам и природе отличается от Холодной войны с СССР. Структура мирового хозяйства изменилась: возникает взаимозависимость, возникающая из массовой торговли и инвестиций. Это осложняет принятие жестких мер, таких как введение высоких тарифов или закрытие иммиграционных потоков, которые в период Холодной войны выглядели более логичными и приемлемыми с позиций господствующей экономической парадигмы. Восприятие угрозы как «существующей» или «экзистенциальной» играет не менее важную роль. Во времена запуска Спутника угроза воспринималась действительно как угроза существованию и мировому устрою.
Сегодня же, несмотря на опасения, многие считают, что с Китаем возможна кооперация, а его рост приносит США экономические и технологические выгоды. Это снижает стимулы для радикальных реформ и инвестиций, подобных тем, что были в 50-60-х годах прошлого века. Анализ комментариев и научных исследований показывает, что нулевая сумма не только объясняет пассивность в реакции на DeepSeek и вызовы Китая, но и усугубляется именно этими обстоятельствами. Усиление нулевого мышления порождает замкнутый круг: страх перед потерями от успехов других приводит к политике протекционизма и ограничений, которая замедляет развитие экономики, инноваций и инвестиционной привлекательности страны. В итоге ухудшаются все ключевые показатели, что подтверждает же представление о неизбежных потерях.
Переломить этот порочный круг можно, лишь изменив восприятие, сместив акценты с конкуренции с нулевой суммой на позитивно-суммированное сотрудничество и совместный рост. Возвращение к стратегической конкуренции, основанной на развитии, инновациях и привлечении талантов в открытом мире, требует нестандартных решений как в экономической, так и в социальной политике, а также реформ в сфере образования, иммиграции и международных отношений. Важна также культурная трансформация, направленная на преодоление пессимизма и ощущения упущенных возможностей, которые внедряют идею о том, что успех одного – это потеря другого. Только через такую смену парадигмы США смогут приблизиться к масштабам реагирования, которые осуществлялись во времена Спутника, несмотря на современные вызовы и условия. Сегодняшний мир технологической конкуренции сложен и неоднороден, и простые аналогии, такие как сравнение DeepSeek со Спутником, не передают глубину проблем и возможностей.
Несмотря на это, понимание ключевых движущих сил, таких как нулевая сумма, демографические сдвиги и особенности государственного управления, позволяет предложить направления, в которых необходимо работать для успешного будущего. Соединённым Штатам предстоит найти баланс между защитой национальных интересов и открытостью к новым формам сотрудничества и инноваций, что позволит сохранить позиции мирового лидера в эпоху быстро меняющегося технологического ландшафта.