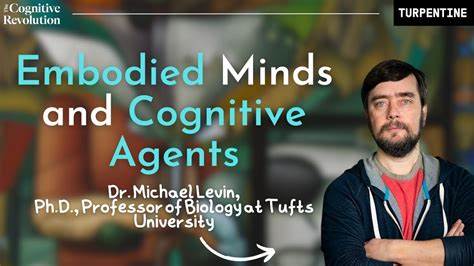В современном мире, где данные и факты становятся доступнее, чем когда-либо прежде, существует устойчивая иллюзия, что знание огромного количества информации обязательно приводит к объективному пониманию и правде. Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Факты сами по себе не способны «спасти» нас или обеспечить ясность; они всегда несут в себе определённый уровень интерпретации и контекста, без которых становятся лишь беспорядочной кучей цифр и дат. Именно об этом сегодня стоит говорить, особенно в условиях быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ), который пытается заменить человеческий труд в сферах, связанных с обработкой и интерпретацией информации.Недавний список от Microsoft, в котором были перечислены профессии, наиболее подверженные замене ИИ, вызвал интерес и даже смех у специалистов в области истории и лингвистики.
Переводчики и историки оказались на вершине этого списка, что изначально кажется странным. Ведь обе дисциплины связаны не просто с сбором фактов или механическим переводом слов, а с глубоким актом интерпретации, которая требует человеческого опыта, понимания культурного контекста и умения видеть скрытые смыслы.Среди крупнейших заблуждений тех, кто не знает всех нюансов истории, лежит представление, что исторические факты существуют отдельно от истолкования. Однако, по словам великого мыслителя Гёте, «каждый факт уже есть теория». Это означает, что факт не можно отделить от той рамки, в которую его помещает исследователь.
При этом составление истории – это копка в недрах множества интерпретаций, исключений и выборок, где решается, что стоит подчеркнуть, а что упустить. Поэтому история невозможна без субъективного человеческого взгляда и никогда не бывает полностью объективной.Советский историк Е. Х. Карр еще полвека назад предупреждал о том, что вера в нечто вроде «твёрдого ядра исторических фактов, существующих независимо от историка» является абсурдом, но при этом такая вера глубоко укоренилась в общественном сознании.
В итоге, факты не говорят сами за себя — они всегда представлены через призму взгляда человека, его идеологий, ценностей и ограничений.Подобная логика применима и к переводу. Современные технологии уже позволяют обеспечить автоматический перевод огромных объёмов текста, что кажущимся простым, но при определённых обстоятельствах этот процесс далеко не совершенен. Перевод — это не просто замена слов между языками. Это сложная культурная медиативная практика, где очень важно не только понимать, что написано, но и то, что автор имел в виду, а также каким образом это будет воспринято на другом языке и в другой культурной среде.
Особенно это касается художественной литературы, где важны тональность, ирония, идиоматические выражения и культурные отсылки.Опыт современного переводчика, который брался за перевод произведения советского писателя-фантаста Кир Булычёва с помощью ChatGPT, наглядно демонстрирует ограничения искусственного интеллекта. ИИ смог сгенерировать черновой вариант перевода за несколько часов, однако конечная работа требовала значительной доработки человеком. Искусственный интеллект не способен перенять тонкость передачи эмоций, шуток и культурных контекстов без участия человека. Тем не менее, ИИ делает процесс перевода менее утомительным, обеспечивая солидную базу, с которой уже могут работать профессионалы, сокращая время на рутинные задачи.
Видно, что будущее лежит не в полном вытеснении специалистов, а скорее в использовании ИИ как инструмента поддержки и автоматизации рутинных процессов. Для тех, кто нуждается в черновом понимании текста, ИИ станет полезным помощником. Для профессионалов же интуиция, усидчивость, культурная чуткость и критическое мышление останутся незаменимыми. В ситуации отсутствия финансовых стимулов или возможностей для качественного перевода ИИ может открыть новые горизонты, позволив расширить доступ к иностранной литературе и информации.Однако главная опасность состоит не столько в физическом замещении профессий, сколько в изменении общественного восприятия их значимости.
Если автоматизированные системы смогут автоматически генерировать «отточенные» и «уверенные» тексты без признаков сомнений и нюансов, существует риск, что люди станут воспринимать это как замену полноценных интерпретаций. Восприятие, что факты — это и есть вся истина, уводит нас от понимания сложных взаимосвязей и многомерности исторических и культурных исследований.В итоге мы можем прийти к ситуации, когда люди будут полагаться на готовые тексты ИИ, утрачивая способность задавать вопросы, сомневаться и анализировать. Подобное доверие машинам, лишённым контекста и не способным к творческой интерпретации, приведёт к доминированию нарративов, формируемых разработчиками этих систем, то есть малой группой людей с определёнными взглядами и целями.Таким образом, хотя Microsoft и предсказывает широкое проникновение ИИ в такие профессии, как историки и переводчики, не стоит воспринимать это буквально.
Искусственный интеллект скорее вытеснит заблуждения о лёгкости этих профессий и невидимости их интерпретативного характера, нежели заменит самих специалистов. Именно это невидимое качество исторической и переводческой работы делает их уникальными и защищёнными от полной автоматизации в обозримом будущем.Нельзя забывать, что факты — лишь часть пути к истине. Истина же возникает в процессе критического переосмысления, анализа контекстов и сопоставления мнений. ИИ может помочь упорядочить факты, ускорить анализ больших массивов данных и упростить рутинные операции.