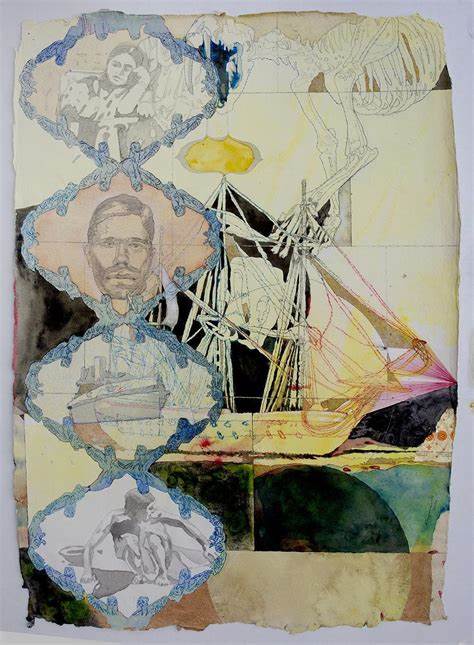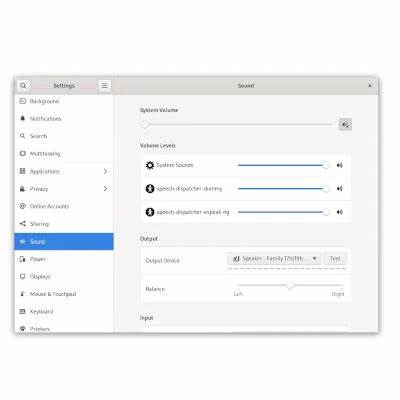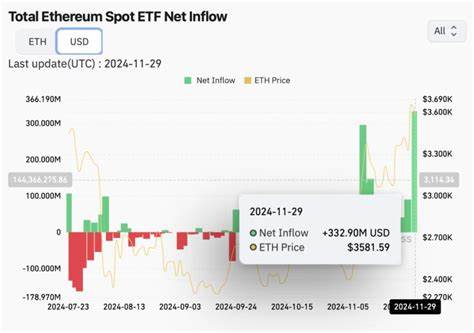Современный мир стремительно меняется под влиянием инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ), и особое место в этом процессе занимают большие языковые модели (БЯМ), такие как ChatGPT от OpenAI. Эти технологии не просто генерируют текст на основе огромных массивов данных, они формируют новую парадигму коммуникации, которая может кардинально повлиять на человеческое мышление, восприятие реальности и социокультурные взаимоотношения. В центре разговора – вопрос о том, как такие модели меняют язык и наше отношение к истине, и что стоит за их впечатляющими результатами с точки зрения психологии и лингвистики. Первые большие языковые модели опираются на поведенческий подход, разработанный в середине XX века психологом Б. Ф.
Скиннером. Его теория бихевиоризма утверждала, что всё человеческое поведение – это реакция на внешние стимулы и подкрепления, и что именно это лежит в основе всех выражений и действий, включая речь. Попытки объяснить человеческое овладение языком как форму кондиционирования и подкрепления, сделанные Скиннером, были мощным вызовом традиционным взглядам, однако их оппонент Ноам Хомский выдвинул концепцию «бедности стимула», указывающую на то, что способность ребёнка быстро и творчески усваивать язык не может быть сведена к простому повторению услышанного и подкреплению. Хомский доказал, что человеческое владение языком содержит глубинные уникальные свойства, которые не сводятся к имитации или обучению через усиление. Детский мозг способен создавать новые предложения, комбинируя слова таким образом, который никогда не встречался в окружающей речи.
Это свидетельствует о внутренней структуре и врожденных механизмах, превращающих язык не просто в инструмент передачи информации, но в средство конструктивного взаимодействия с миром. Возвращаясь к современности, БЯМ обучаются преимущественно на основе принципов поведенческого подкрепления, обрабатывая огромные массивы текстов с Интернета. Они создают впечатляющие тексты и симуляции человеческой речи, но, по сути, их процесс обучения – это имитация с подкреплением правильных ответов, что существенно отличается от человеческого понимания и внутренних мотиваций. Таким образом, хотя их продукция буквально читается как осмысленная речь, по сути это лишь высокоразвитая эмуляция, лишённая внутреннего стремления к истине или искреннего общения. Подобные попытки моделирования человеческого языка на основе бихевиоризма не новы.
В 1960-70-х годах ученые пытались научить различных приматов использовать язык жестов, считая, что отсутствие развитого вокального аппарата ограничивает их способность к языку. Известные примеры, такие как Коко-горилла или шимпанзе Уошо, показали, что животные способны к имитации и символическому общению на базовом уровне – например, просить еду или реагировать на команды, но не способны к творческому и абстрактному использованию языка, характерному для человека. Проект «Ним» с шимпанзе по имени Ним Чимпски пытался выяснить, могут ли приматы действительно понять и использовать язык как люди. Изучение видеозаписей выявило, что реакции Нима часто были ответом на сигналы и подсказки тренеров, а не проявлением самостоятельного языкового творчества. Ним, как и другие обучаемые приматы, повторял действия, ожидая награды, что указывает на поведенческое подкрепление, а не на истинное желание коммуницировать или делиться внутренним опытом.
Это важно в контексте понимания больших языковых моделей, поскольку и они, и обезьяны, обученные языку жестов, работают по схожим принципам поведенческого воздействия и подкрепления, а не обладая внутренним пониманием и цельным стремлением к коммуникации. В психологии XX века также выделяется феномен «эффекта сказанного – верящего» (saying-is-believing effect), изученный такими учёными, как И. Тори Хиггинс и Уильям Ролс. Этот эффект демонстрирует, насколько язык влияет на наше представление о мире и запоминание информации. Люди не просто искажённо передают информацию исходя из мотивации (например, чтобы убедить собеседника), но и со временем начинают верить в искажённую версию реальности, которую сами же передавали.
То есть язык меняет не только восприятие слушателей, но и самого говорящего. Психологи выяснили, что речь используется не только как инструмент передачи информации или достижения материальных выгод, но и как механизм конструирования совместной реальности, разделяемой с другими людьми. Эта «совместная реальность» образует общественную ткань, в которой доверие и взаимопонимание зависят от честности и искреннего обмена правдой, а не от манипуляций и инструментализации языка. Применительно к большим языковым моделям это означает серьёзный вызов. Поскольку БЯМ создают тексты, ориентируясь на удовлетворение запросов и подкрепление успешных формулировок, они продуцируют языковые конструкции, которые могут казаться убедительными и адекватными, но лишены искреннего стремления к истине или желанию поделиться пониманием.
Таким образом, языковая продукция ИИ является «специозной» – внешне привлекательной, но по сути пустой с точки зрения познания и человеческих коммуникационных ценностей. В результате широкое внедрение таких моделей в повседневное общение, подготовку документов, написание статей, презентаций и электронных писем может привести к снижению качества человеческого общения, уменьшению доверия и способности отделять правду от вымысла. Если мы доверимся ИИ, заменяющему нашу собственную языковую активность, мы рискуем превратить язык в инструмент чистой эффективности и манипуляции, потеряв глубинное понимание и желание участвовать в совместном построении реальности. С точки зрения этики и культуры, такой сдвиг повлияет не только на индивидуальные коммуникации, но и на общественные институты, религиозные практики и образовательные системы. Например, в христианской традиции центральное место занимает Святой Писание – слово, несущие истину и основывающееся на божественном откровении.
Потеря ценности искреннего и правдивого языка способна ослабить духовную связь и затуманить наше представление о том, что значит быть человеком, способным к любви и правде. С другой стороны, искусственный интеллект и большие языковые модели уже доказали свою способность поддерживать креативность и ускорять исследования в медицине, науке и программировании. Использование ИИ как инструмента дополнения нашей интеллектуальной деятельности способны принести конкретные выгоды и открыть новые горизонты. Тем не менее, важно сохранять бдительность и различать инструменты и их место в нашем мышлении, не позволяя им подменять живое и искреннее человеческое общение. В ответ на вызовы ИИ и цифровой эпохи возникает идея «цифрового монашества» – сознательного ограничения цифровых воздействий и формирование новых норм общения, ориентированных на сохранение глубины и правдивости языка.