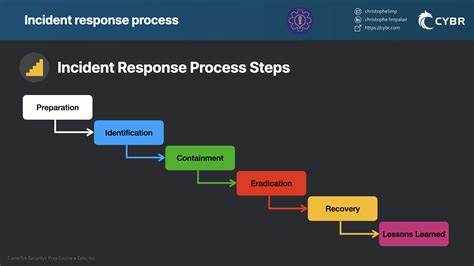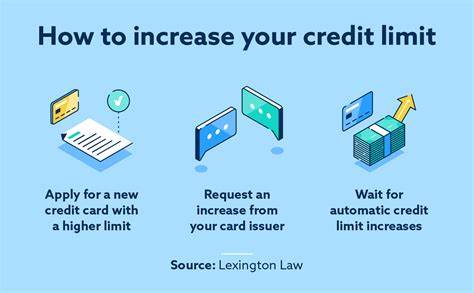Популизм занимает особое место в политическом ландшафте постсоветского пространства, являясь своеобразным синдромом, проявляющимся в различных формах и на разных этапах развития режимов. В основе популизма лежит противопоставление «нас» — народа и «них» — элит, сопровождаемое нередко демонизацией внешних и внутренних врагов. Это явление имеет глубокие корни, уходящие в исторический опыт региона, а также революционные процессы, происходившие на территории после распада Советского Союза. В конце XX века, во время политических трансформаций, многие постсоветские страны испытали взрыв популистских настроений. Период становления новых государств характеризовался слабостью институтов, невырожденной партийной системой и относительно широкой свободой выражения мнений.
Популистские партии и лидеры быстро появились на арене, играя роль посредников между широкими слоями населения и новыми политическими элитами. Их риторика была полна обещаний восстановить справедливость, противостоять коррупции и защитить «народные интересы» от « продажных» властей. Однако не все экспертное сообщество единодушно в отношении присутствия и силы настоящего популизма в регионе. Одни ученые утверждают, что популизм охватывает весь спектр политических сил, включая и тех, кто традиционно позиционировался как анти-популистский. Другие же подчеркивают редкость устойчивых системных проявлений популизма, акцентируя внимание на дефиците настоящей политической плюралистичности и участии масс в управлении.
Концептуально популизм определяется через множество характеристик: идеализация народа, антиизбранность, надежда на харизматического лидера, а также явное противостояние с «чужими». Эти элементы в совокупности образуют своего рода «популистский синдром», проявляющийся в партийных программах, лидерских стилях и массовом поведении. В постсоветском пространстве этот синдром проявлялся по-разному в зависимости от политической ситуации и степени свободы общественной жизни. 1990-е годы стали временем интенсивного взлета популистских движений, когда многие лидеры использовали националистическую и антиэлитарную риторику, обещая радикальные перемены. Появились партии, черпающие вдохновение из разнообразных традиций — от этнического национализма до левых социальных идеалов.
Одним из ярких примеров стала Либерально-демократическая партия России, возглавляемая Владимиром Жириновским, оформившаяся как символ правого популизма с ярко выраженными националистическими и милитаристскими лозунгами. Впрочем, постсоветский популизм вовсе не ограничивался правыми партиями. Левые движения, коммунистические преемники и социал-демократические структуры также использовали популистскую риторику, акцентируя внимание на социальной справедливости, критике рыночных реформ и борьбе с олигархией. Системные коммунистические партии нередко модернизировали свои программы, включая элементы ностальгии по СССР и апелляции к национальному единству. Политические лидеры играли ключевую роль в формировании и развитии популизма.
Первые поколения посткоммунистических президентов пришли к власти, используя популистские стратегии, обещая защиту народа и полный разрыв с прежними элитами. Однако популистские стили далеко не всегда сохранялись после установленного ими авторитарного управления. Многие из них трансформировались в классических автократов, подавляя политическую конкуренцию и ограничивая гражданские свободы. Александр Лукашенко в Беларуси стал примером «авторитарного популизма», оставаясь на политической сцене десятилетиями благодаря сочетанию традиционной народной риторики и жестких репрессий против оппозиции. Его власть иллюстрирует, как элементы популистской идеологии могут сочетаться с репрессивными режимами, однако при этом первоначальные принципы народовластия и антиизбранности заметно теряют актуальность.
В период «цветных революций» 2000-х годов всплеск популистских лидеров, таких как Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, демонстрировал новый подход — мобилизацию масс против коррупции и старых элит с акцентом на национальное возрождение и антиолигархическую повестку. Несмотря на яркость этих движений, проблема устойчивости их успеха оставалась острой, особенно в условиях институциональных слабостей и политических репрессий. Новое поколение популистских лидеров 2010-х и 2020-х годов, в том числе Владимир Зеленский и Садыр Жапаров, также использовало стратегию прямой коммуникации с «простым человеком», обещая решать накопившиеся проблемы коррупции, социальной несправедливости и политического застоя. Зеленский, например, построил свой образ на сочетании харизмы «человека из народа» и медийных технологий, что привело к беспрецедентному своему времени электоральному успеху. Тем не менее постсоветские режимы со временем стали переходить от первоначальной политической плюралистичности к различным формам авторитаризма.
По мере укрепления контроля государства за политическим процессом и общественной жизнью, возможности для развития подлинного популизма слабеют. Жесткое регулирование СМИ, репрессии против оппозиции и ограничения свободы собраний поставили под сомнение эффективность и возможность массовой политической мобилизации, традиционно связанной с популистскими движениями. Это приводит к феномену так называемого «авторитарного псевдопопулизма», когда режимы, лишенные элементов демократического участия, все еще используют популистские приемы — риторику народовластия, националистические и традиционалистские лозунги — исключительно как инструмент легитимации и отвлечения внимания от внутренних проблем. Примером подобной практики могут служить утилитарные советы представителей элит, называемых «системной оппозицией» в России, не представляющей реального вызова власти. В России Владимир Путин с начала 2000-х годов демонстрирует определенную «ситуативную» или инструментальную форму популизма, особенно в периоды политических кризисов.
Его лидерство сочетается с технологией контроля и жестким управлением, где популистские декларации служат средством укрепления режима, а не подлинной демократической мобилизации. Важным механизмом сохранения власти становится сочетание государственной пропаганды и репрессивных методов. Постсоветский опыт доказывает, что без демократических институтов популизм теряет свое ключевое свойство мобилизатора. Демократия и политическое разнообразие создают среду для появления и активизации популистских течений. В условиях же угасания плюрализма и усиления авторитаризма форма популизма трансформируется или исчезает как реальная сила.
На современном этапе в странах региона доминируют автократические режимы с минимальными возможностями для оппозиционного политического участия и гражданского общества. Это ведет к сокращению влияния популистских игроков на политическую повестку и смещению внимания к внутренним элитным конкурентам и стабильности власти. В заключение, синдром популизма в постсоветских странах является одновременно свидетельством напряжения между народом и элитами, а также индикатором этапа политического развития. Переход от периодов политической открытости к режимам с жестким контролем свидетельствует о том, что устойчивый популизм невозможен без демократической среды. С этой точки зрения эволюция постсоветских режимов отражает глобальную дилемму — популизм как проявление народного протеста возникает и усиливается там, где есть хотя бы минимальные основы политического участия, но исчезает или меняет форму в ходе авторитаризации власти.
Понимание особенностей и трансформации популизма на постсоветском пространстве поможет не только лучше разобраться в региональных политических процессах, но и сделает вклад в более широкие исследования о роли популизма в современных международных отношениях и внутренних политических системах.