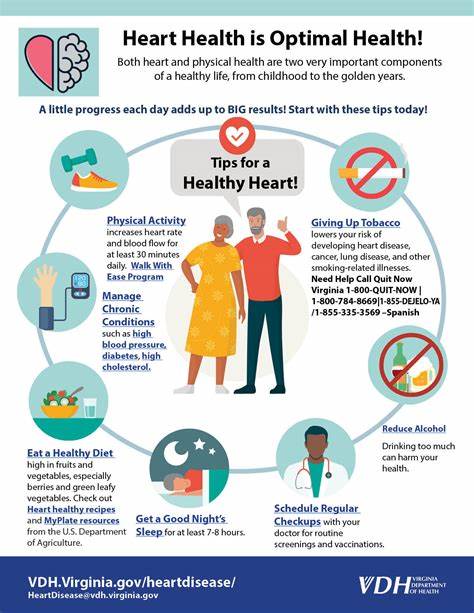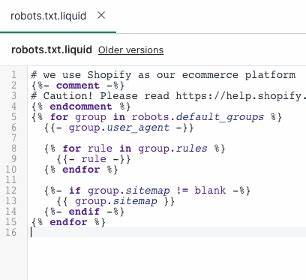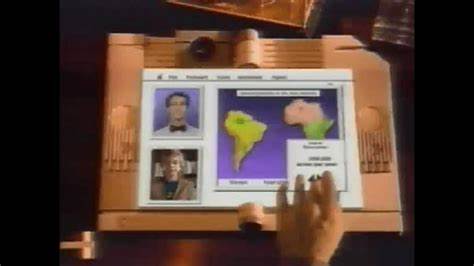Память традиционно ассоциируется с мозгом — органом, считающимся центром всех когнитивных процессов у животных, особенно у человека. Однако открытие уникальных свойств акцелюлярного слизевика Physarum polycephalum, или просто «слизевика», меняет устоявшиеся представления. Этот организм, не имеющий ни нервной системы, ни мозга, способен принимать решения, запоминать пространственную информацию и даже передавать память между особями, что заставляет учёных и философов пересматривать фундаментальные концепции памяти и познания. Physarum polycephalum представляет собой гигантскую одноклеточную структуру, которая в своём зрелом плазмодиевом состоянии может разрастаться до нескольких квадратных метров. Несмотря на кажущуюся примитивность, этот слизевик способен решать задачи, которые до недавнего времени считались прерогативой сложных организмов: он находит самый короткий путь в лабиринте, оптимизирует свою сеть каналов для добычи пищи и проявляет элементы обучения через привыкание.
Одним из наиболее впечатляющих открытий является способность слизевика использовать оставленные им самим слизевые следы как внешние хранилища памяти. Эти слизистые следы функционируют как карта уже исследованных территорий и позволяют организму избегать повторного обследования голодных участков среды. Экспериментальное подтверждение было получено, когда исследователи создавали условия, имитирующие присутствие «чужой» слизи на пути слизевика, что значительно замедляло его движение к цели. Это показало, что Physarum действительно опирается на пространственную память, записанную во внешней среде, а не только на внутренние процессы. В этой стратегии можно усмотреть аналогию с техническими устройствами, которые хранят информацию вне человеческого мозга — например, смартфонах и бумажных записках.
Такая форма памяти расширяет традиционное понимание когнитивных процессов, подчеркивая идею «расширенного познания», когда мышление и память не ограничены внутренними биологическими структурами, а включают взаимодействие с окружающей средой. Помимо использования внешних слёз слизевика, внутренние изменения также играют роль в формировании памяти. Physarum проявляет способность к латеральному переносу «навыков»: когда две плазмодии соединяются физически, одна, привыкшая к определённому раздражителю, может передать опыт другой, ранее необученной особи. Так неподготовленный слизевик начинает демонстрировать привычку игнорировать неприятные стимулы, одновременно укрепляя концепцию не только внешней памяти, но и коллективного обмена информацией между организмами. Эта способность к обмену знаниями без собственного опыта вызывает параллели с человеческим обучением через чтение инструкций или следование советам — примерами памяти, не проходящей через личный опыт, но тем не менее влияющей на поведение.
Для конечного понимания феномена памяти у слизевиков необходимо также учитывать эволюционные механизмы. Способность оставлять идентифицируемые следы в среде может иметь приспособительное значение, особенно если организмы, оставляющие такие сигналы, имеют генетическую близость. Со временем могла выработаться стратегия, при которой наличие и распознавание слизевых следов обеспечивают коллективное увеличение выживаемости, помогая сородичам более эффективно находить пищу и избегать опасностей. Несмотря на растущий объём данных, даже сегодня многие учёные относятся к идее памяти вне мозга с сомнением, предпочитая связывать запоминание с нейронной пластичностью и изменениями синаптических связей. Однако наблюдения за Physarum показывают, что память и когнитивные функции могут принимать гораздо более разнообразные формы, чем считалось ранее.