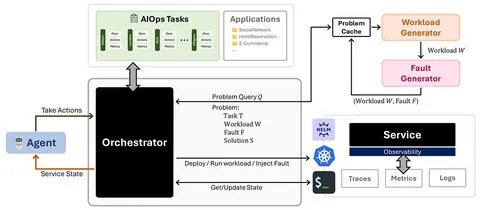В последние годы все чаще можно услышать о проекте создания так называемых «сетевых государств» — цифровых сообществ, претендующих на альтернативу традиционным национальным государствам. Эта идея, получившая популярность благодаря технореволюционерам и венчурным капиталистам, в частности Баладжи Сринивасану, обещает масштабный перелом в политике и государственном управлении. По его мнению, цифровое сообщество имеет потенциал стать новой формой государства, где участники смогут свободно «выходить» из устоявшихся национальных проектов и вступать в виртуальные единства с собственной системой управления и даже территориальной экспансией. Однако за привлекательным фасадом прогрессивных технологий скрывается глубокая иллюзия — фундаментальная невозможность полностью покинуть традиционные политические структуры и реальный мир. Истоки концепции «сетевого государства» тесно связаны с ростом цифровых технологий и возможностью объединять людей по всему миру на основе общих интересов, а не географии.
Благодаря социальным сетям и коммуникационным платформам человеку гораздо проще найти единомышленников даже на противоположных концах планеты. Это породило идею существования «общностей», которые могут выступать как самостоятельные политические субъекты. Баладжи называет такие проекты «стартапным обществом»: фундаменты из цифровых технологий, криптовалют, онлайн-каналов для коммуникации и организации жизни. По его замыслу, они смогут постепенно отвоевать демократическое пространство, создать новые культурные нормы и даже легализовать собственные законы, встроенные в программный код. В итоге, такие «государства» по сути являются сложными магистралями цифрового взаимодействия с «одной заповедью» — основным принципом, объединяющим всех участников.
Тем не менее подобные идеи сталкиваются с серьезными ограничениями практического плана. Прежде всего, виртуальные сообщества не могут обеспечить элементарные функции, которые сегодня выполняют классические государства. В реальном мире обеспечение базовых потребностей — воды, пищи, жилья, электроснабжения, инфраструктуры связи — снова и снова требует физического присутствия и взаимодействия с существующими государственными институтами. Сегодня глобальные сети интернет, энергия, транспорт и производство строго регламентированы и контролируются со стороны государств, и попытки создать параллельные системы в крупных масштабах наталкиваются на жёсткие барьеры со стороны национальных правительств и регулирующих органов. История не раз показывала, насколько быстро государства реагируют на попытки уйти от традиционного контроля.
Эксперименты вроде «плавучих государств» и автономных территорий нередко заканчивались их силовым закрытием или поглощением. Это связано с тем, что суверенитет не является сугубо концептом свободы по выбору. Это институциональная система, подкрепленная правовыми нормами, аппаратами принуждения и контролем над территорией. Чтобы любой проект смог претендовать на равноправное существование на международной арене, ему необходимо получить признание других государств, а это сложный и непрозрачный процесс политических договоренностей и интересов. Еще одна важная проблема — инфраструктурная зависимость.
Интернет и цифровая инфраструктура, которые якобы должны обеспечить независимость сетевых государств, не работают в вакууме. Они зависят от физических дата-центров, электроэнергии, международных тарифов и политических договоренностей. Отказ от контроля над этими ресурсами неизбежно приводил бы к потере возможностей функционирования и вытеснению таких сообществ. Даже если группа построит собственные микросети энергоснабжения или автономные дата-центры, вопросы все равно возникнут: регулирование безопасности, стандартизация, вопросы экологического законодательства и взаимодействия с физическим пространством. Концепции цифрового суверенитета зачастую основываются на предположении, что технологии способны обойти устоявшиеся политические системы.
Однако реальность показывает обратное: государственные институты все больше интегрируют цифровые механизмы в свои процессы управления и контроля, используя новые возможности для усиления своего влияния над населением. На фоне усиления кибербезопасности, законодательства о данных и государственной цензуры, цифровые пространства становятся ареной борьбы, а не нейтральной площадкой для свободного творчества или политического выхода. Феномен цифровой централизации и монополизация в руках крупных технологических корпораций также нельзя исключать из уравнения. Напротив, с развитием интернета мы наблюдаем усиление влияния ограниченного круга IT-гигантов, которые действуют в тесной связке с политическими режимами. Это подталкивает вопрос самостоятельности цифровых проектов и их реальной способности существовать за пределами национальных границ.
Вместе с тем идея «высокотехнологического выхода» не лишена позитивных сторон и вдохновляющих перспектив. Она рождает новые формы самоорганизации, способствует развитию стартапов в области блокчейн-технологий и цифровой демократии, а также стимулирует обсуждение роли граждан в современном обществе. Однако ключевой вывод заключается в понимании, что технология не может быть заменой политическим институтам, а скорее лишь инструментом их трансформации. История технологий и политических экспериментов учит нас, что попытка сбежать от политики посредством ухода в цифровое пространство — путь, ведущий к разочарованию. Вместо ухода и иллюзорного выхода, значительное влияние могут оказать те, кто выбирает включение и активное участие в модернизации существующих государственных и общественных структур.