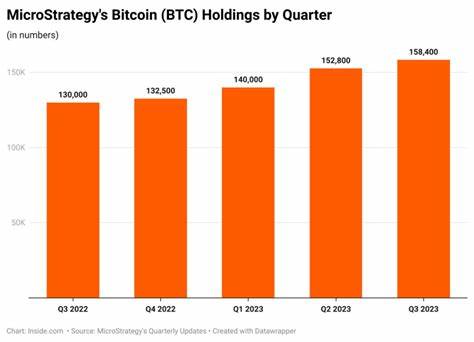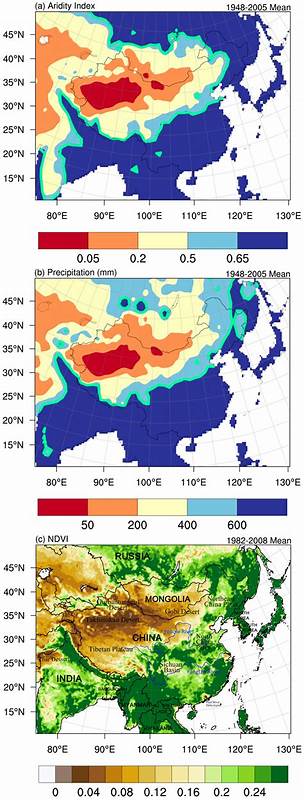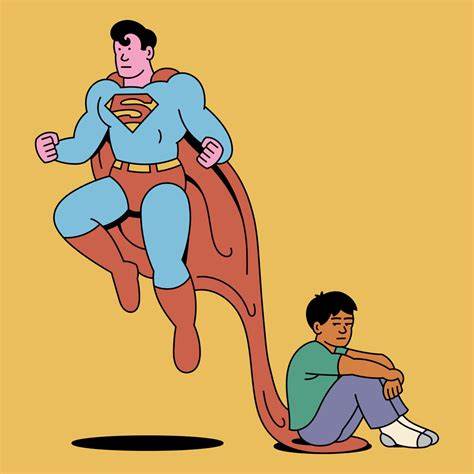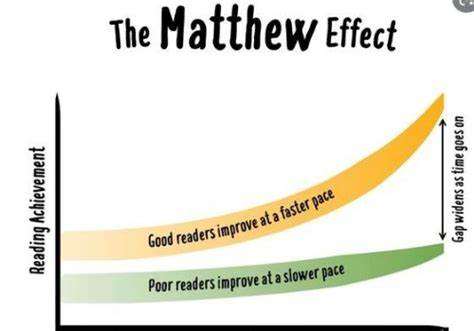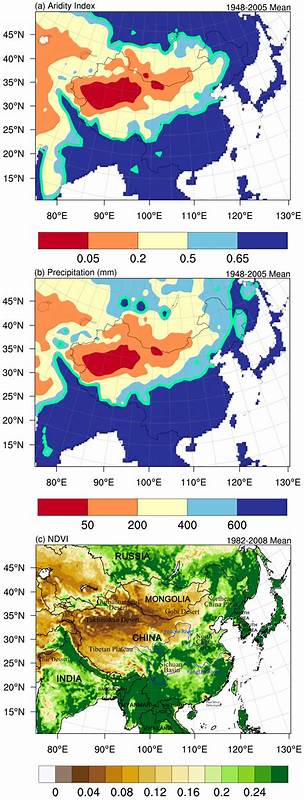В последние годы мир стал свидетелем возросшего влияния авторитарных режимов на медийные ландшафты разных стран. Среди множества приемов, которыми они пользуются для подавления свободы прессы и контроля над информацией, ключевым оказывается захват традиционных СМИ, что в совокупности с новыми цифровыми технологиями способствует расширению влияния цифрового авторитаризма. Пример Венгрии, под руководством Виктора Орбана, демонстрирует, как классические приемы контроля, тесно переплетаясь с сегодняшними технологическими возможностями, превращают медиа в инструмент управления сознанием и укрепления власти. Возвращение Орбана к власти в 2010 году ознаменовалось резким поворотом в политике в отношении средств массовой информации. Осознав значимость контроля над медиа для закрепления своего влияния, он инициировал масштабную кампанию по суверенному управлению всеми сегментами медийного пространства страны.
Процесс сопровождался грубыми административными мерами - от замены независимых журналистов на лояльных функционеров в государственных СМИ до перестановок в составах регуляторных органов, гарантировавших лояльность официальной власти. Государственная реклама, наполненная значительными финансовыми ресурсами, была перераспределена в пользу прорежимных изданий, а предприниматели, близкие к власти, целенаправленно скупали частные медиа-активы, создавая конгломераты, полностью подконтрольные партии Фидес. Особое внимание заслуживают фигуры ключевых бизнесменов, таких как Энди Вайджа, который владел одним из крупнейших телеканалов TV2, и Лёринц Мешарош, близкий друг Орбана, контролировавший крупнейшее издательство Mediaworks. Их приобретения носили системный характер, а координированные усилия предпринимателей позволили быстро превратить проправительственные СМИ в мощный аппарат политической пропаганды. Это способствовало не только притоку избирателей на сторону Фидес, но и формированию квазимонополистической информационной среды, где альтернативные голоса фактически отсутствовали.
Данный кейс Венгрии превратился в своеобразный учебник по медиа-захвату: он базируется на четырех ключевых принципах — доминировании над государственными медиа, политическом контроле регуляторов, использовании государственных денег для влияния на контент и системной покупке частных СМИ. Представленная модель получила дальнейшее распространение в других странах, таких как Польша, Словакия, страны Северной Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Это подтверждает универсальность метода и его эффективность для установления мягкой, но стабильной формы авторитаризма. Исторически попытки контроля над прессой существовали всегда, однако в современную эпоху цифровых технологий происходит нечто иное. Влияние на частный сектор, бизнеса и технологических корпораций, их подчинение интересам правящих режимов обеспечивает беспрецедентный уровень информационной манипуляции.
Компании, зависимые от государственных тендеров, лицензий и регуляций, вынуждены либо сотрудничать, либо подчиняться, что ведет к превращению медиа в орудия пропаганды, а журналистов к превращению в носителей внушаемых режимом нарративов. Интернет долгое время оставался единственным убежищем для независимой и критической журналистики в странах с захваченными СМИ. На примере Венгрии, где в 2011 году группа журналистов создала расследовательский онлайн-ресурс Atlatszo, а также в Словакии через образование независимого портала Denník N после массового ухода журналистов из прорежимного издания, видно, насколько важна роль цифровых пространств в сохранении плюрализма мнений. Социальные сети и цифровые платформы первоначально предоставляли свободу выражения и канал распространения непредвзятой информации, однако со временем ситуация изменилась. Большие технологические компании постепенно сближаются с государственными структурами, поддерживая режимы в обход демократических норм.
Критика в адрес Google и других гигантов связана с подозрениями в финансировании связанных с режимами медиа и повсеместной фильтрацией контента с целью цензуры и подавления оппозиции. Примером является Турция, где Google обвиняют в поддержке про-Эрдоганских СМИ и в том, что компания способствует распространению официальной пропаганды путем поисковой выдачи и финансовых грантов. Twitter (теперь X) после прихода Илона Маска снял ограничения на аккаунты, связанные с авторитарными государствами, таким образом снижая барьеры для распространения искаженной или подстрекательской информации. Facebook подвергается критике за сотрудничество с государственными цензорами во Вьетнаме, где социальная сеть удаляет посты и блокирует аккаунты оппозиционно настроенных пользователей. Все эти примеры демонстрируют тревожную тенденцию — постепенный отход технологических платформ от защиты свободы слова и независимой журналистики.
Вместо обеспечения прозрачности и открытости они становятся инструментами контроля, открывая новым формам медиа-захвата цифровое пространство, которое ранее воспринималось как площадка для свободного обмена информацией. В ответ на вызовы необходимы комплексные политические меры. Европейский союз выступает одним из лидеров по введению законодательных механизмов, регулирующих деятельность больших платформ. Согласно цифровому закону о услугах (Digital Services Act), крупные технологические компании обязаны проводить регулярные оценки рисков распространения дезинформации и проходить независимые аудиты. Аналогично Digital Markets Act направлен на противодействие монополистическим практикам на цифровых рынках и создание равных условий для участников.
Однако эти инициативы пока не охватывают полностью вопросы защиты независимой журналистики и предотвращения влияния больших технологий на процессы распространения credible news-контента. Европейский закон о свободе СМИ (European Media Freedom Act) хотя и поднимает тему медиа-захвата, но избегает прямого регулирования цифровых гигантов. В итоге, остается значительный разрыв в системе, позволяющий цифровым платформам становиться пассивными пособниками или активными участниками процессов, ослабляющих демократию. Для преодоления подобных угроз необходимо не только ужесточение правил и введение прозрачных механизмов контроля, но и создание альтернативных площадок, ориентированных на общественный интерес. Среди перспективных инициатив находятся проекты, такие как Совет европейского общественного пространства и Eurostack, призванные формировать мультилингвальную, независимую цифровую среду для распространения качественной и надежной информации.
Их реализация требует значительной политической воли и общественной поддержки, но без них будущее свободной журналистики в цифровую эпоху под большим вопросом. Помимо законодательства, важную роль играет гражданская активность и поддержка независимых медиаресурсов со стороны общественных организаций и базовых институтов. Пример Ливана, где НПО добиваются принятия европейского медиа-законодательства и регулирующих норм для цифровых платформ, свидетельствует о важности местного и международного взаимодействия в борьбе с цифровым авторитаризмом. В конечном счете, сохранение свободной прессы в цифровом пространстве — ключевой фактор противостояния медиа-захвату и укрепления демократических процессов. Без эффективных механизмов защиты и ответственности со стороны технологических компаний свобода выражения и независимая журналистика рискуют превратиться в рудимент прошлого, уступая место новым формам авторитарного контроля под прикрытием цифровой модернизации.
Только скоординированные усилия властей, общественных институтов и технологического сектора могут остановить этот опасный тренд и обеспечить открытую, честную и плюралистическую информационную среду для будущих поколений.