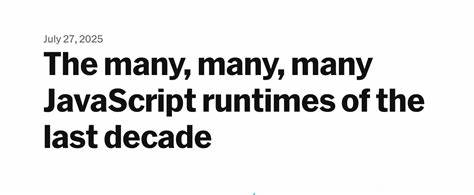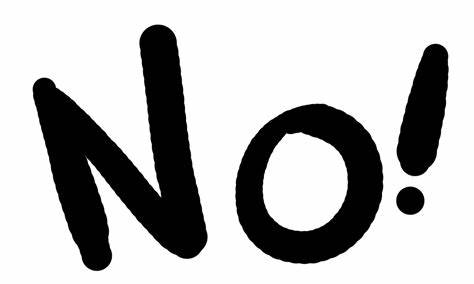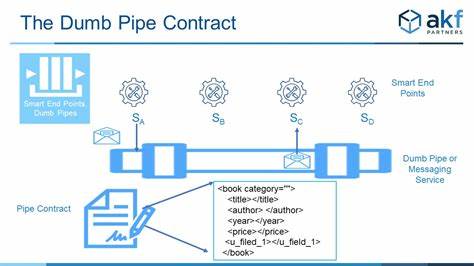Эссе «Одиннадственное слово», написанное Лулу Миллер и опубликованное в 2020 году, представляет собой трогательную и интеллектуально насыщенную историю о первых шагах ребенка в мире языка, а также о сложностях и парадоксах, которые сопровождают процесс познания мира через слова. Автор, известная как соавтор Radiolab и автор книги «Почему рыбы не существуют», делится своим опытом наблюдения за речевым развитием своего сына, предлагая при этом размышления о том, как слова формируют нашу реальность и как они могут одновременно быть связью и преградой между человеком и окружающим миром. Начинается история с того, как ее ребенок произносит слово, которое должно было стать одним из простых — «рыба». Однако для Миллер это слово является гораздо более значимым и символичным. Она длительное время изучала, почему категория «рыба» оказывается биологически ложной и условной, так как научные исследования показали, что многие существа, которых мы обычно называем рыбами, не имеют между собой тесного родства.
Это открытие становится для автора метафорой человеческой привычки классифицировать мир с чрезмерной упрощенностью ради комфорта и контроля, что приводит к потере истинного понимания и восприятия тонких сложностей природы. Удивительно, что именно это «рыба» стало у ребенка одиннадцатым словом, символизируя своеобразный рубеж перехода от бездумного познания мира к осознанию, структурированию и категоризации. Однако, как отмечает Миллер, этот момент должен был вызвать у нее тревогу — ведь с появлением языковых ярлыков приходит не просто понимание, но и ограничение, фильтр, который заставляет видеть мир через призму слов и категорий, иногда искажая его. Миллер описывает, как после произнесения слова «рыба» мир ее ребенка словно расширяется, и в то же время упрощается: все живые существа и предметы свертываются в несколько больших групп — собаки, утки и рыбы. Эта примитивная классификация, которая на первый взгляд может показаться забавной, отражает древние методы человека упорядочивания окружающего мира и напоминает о философских взглядах Аристотеля, разделявшего животных по их средам обитания.
Особая ирония ситуации состоит в том, что ребенок, открывая слово, одновременно открывает для себя рамки языка — а значит, и рамки, в которых будет формироваться его познание окружающего мира. Так слово, ставшее вехой, оборачивается еще и своеобразной «ловушкой» восприятия, которая заставляет не замечать многообразия и уникальности вещей, сводя все к знакомым ярлыкам. В эссе также упоминается эффект Зейгарника — психологическое явление, согласно которому незавершенные, не названные или не осознаваемые задачи запоминаются и тревожат сознание сильнее завершенных. Миллер использует эту теорию, чтобы показать, что именование и категоризация, хотя и являются способом упорядочить мир, на самом деле могут приглушать живость и многогранность восприятия, переводя их в более статичные и закрепленные понятия. Дальше история приобретает эмоциональный отклик, когда ребенок переживает первый ночной ужас, крича в гостевой комнате у бабушки и дедушки, не узнав родителей и окружающую обстановку.
Миллер размышляет, что возможно, этот страх является не только реакцией на смену обстановки, а следствием вступления ребенка в новый этап понимания мира, где теперь незнакомое уже невозможно скрыть и принять так просто, как раньше — теперь оно получает имя и становится чужим и пугающим. Автор проводит глубокую параллель с современной эпохой, где неопределенность и тревога о будущем усиливаются — пандемия COVID-19, социальные волнения, экологические катастрофы заставляют взрослых мирозрение дрожать в считанные недели. Миллер отмечает, что страх перед неизвестным является одним из самых сложных и болезненных аспектов человеческой психики, подкрепленным нейробиологическими исследованиями, выделяя важность смирения перед неопределенностью и способность воспринимать мир не как перечислимый набор объектов, а как сложное и зачастую не поддающееся глазу целое. «Одиннадственное слово» — это также признание сложности родительства в современном мире. Миллер делится своими сомнениями и желаниями защитить сына от боли и разочарований, которые неизбежно приходят с ростом и пониманием, но также и радостью, которая приходит с первыми словами, с осознанием того, что ребенок начинает общаться и совместно с родителями создавать историю своего мира.
Текст наполнен поэтическими образами, яркими метафорами, которые переносят читателя в внутренний мир автора — в моменты, когда вода в ванне становится отражением пространства, а слова — словно волны красок, меняющие формы и смыслы. Такой художественный подход позволяет глубже прочувствовать представленные идеи и переживания. Важно отметить, что эссе не стремится дать готовые ответы, а скорее приглашает к размышлениям о тонкой грани между знанием и невинностью, между языком и реальностью, между страхом и принятием неизвестности. Миллер призывает читателя к более скептичному и любопытному отношению к словам и категориям, напоминает, что каждое слово — это не только мост к пониманию, но и потенциальная ловушка. Произведение становится особенно актуальным в свете мировых событий последних лет — волнений, пандемии, социальных изменений.
Оно привлекает внимание к тому, как язык и восприятие влияют на наши эмоции и действия, и как важно не терять способность удивляться и видеть мир не только через призму уже знакомых нам слов, а с открытым сердцем и взглядом. Итогом становится медленное принятие того, что невозможно и не нужно знать все, что неопределенность — это нормальное состояние, с которым стоит научиться жить, а язык должен служить не оковами, а ключами к пониманию и сочувствию. «Одиннадственное слово» приглашает не только к наблюдению за развитием ребенка, но и к осознанию собственной человеческой уязвимости и глубокой связи с загадочным, многообразным и постоянно меняющимся миром вокруг нас.