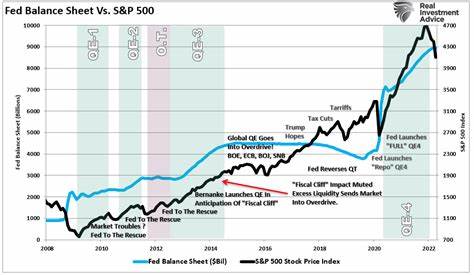Искусственный интеллект, а особенно генеративные модели, таких как большие языковые модели (LLM), уже значительно изменили ландшафт технологической индустрии. Они активно применяются в самых разных областях — от обработки текста и создания контента до генерации изображений и выполнения сложных задач. Однако несмотря на заметные успехи, генеративный ИИ сталкивается с одним фундаментальным и до сих пор нерешённым препятствием — он неспособен создать и поддерживать стабильные, динамические и интерпретируемые модели реального мира. Это ограничивает их способность к полноценному пониманию, надёжному рассуждению и точному воспроизведению фактов и логики. В этой статье мы подробно разберём, в чём заключается эта проблема, почему генеративные модели не могут выстроить полноценные «модели мира» и как это влияет на их практическую эффективность и безопасность.
Для начала важно объяснить, что такое модель мира (или когнитивная модель). В когнитивной науке и классической искусственной интеллигенции это внутренняя, упорядоченная и динамичная структура, с помощью которой система — будь то человек, животное или машина — отслеживает состояние и события окружающего мира. Такая модель не обязательно должна быть абсолютно точной или полной, но она должна быть постоянной, обновляемой и достаточно стабильной для поддержания адекватного понимания происходящих процессов и мотиваций. Примером реализации модели мира может служить схема в шахматной программе, которая отображает текущее положение фигур на доске, историю ходов и правила игры. Это позволяет программе не просто воспроизводить отдельные популярные ходы, а принимать осмысленные решения, исключать нарушения правил и предугадывать последствия ходов.
В классическом ИИ такие модели являются краеугольным камнем — еще со времён Алана Тьюринга, чья шахматная программа Turochamp строилась на динамическом обновлении внутренней модели доски после каждого хода. Современные генеративные языковые модели, такие как ChatGPT, напротив, работают иначе. Они обучаются на огромных корпусах текстов и визуальных данных, выявляя статистические закономерности и вероятностные связи между словами и понятиями. Иными словами, от них не требуется строить внутреннее представление окружающего мира. Они просто пытаются «угадывать» следующий элемент последовательности, основываясь на обучении.
Это коренным образом ставит их в неудобное положение. Без модели мира, где можно было бы хранить устойчивую и структурированную информацию, эти системы по сути являются гигантскими чёрными ящиками. Такой подход имеет ряд серьёзных недостатков. Во-первых, LLM часто ошибаются с фактами, выдавая недостоверную или противоречивую информацию, что известно как галлюцинации. Например, система может уверенно утверждать, что известный американский актёр вырос в Великобритании, несмотря на наличие точных данных в источниках вроде Википедии.
Это происходит из-за того, что у модели нет интегрированной базы знаний, способной надёжно хранить и обновлять сведения о конкретных объектах и фактах. Во-вторых, значительные проблемы наблюдаются в ситуациях, требующих динамического отслеживания изменений. Возьмём шахматы — игру с фиксированными правилами и чёткими состояниями. Начальные ходы могут быть успешно воспроизведены на основе статистики, поскольку они стандартизированы и широко представлены в обучающих данных. Однако по мере развития партии количество возможных вариантов растёт экспоненциально, и идентификация текущего состояния доски становится критически важной.
Без живой модели, которая следит за перемещениями фигуры и ограничениями игры, генеративная модель начинает допускать нелегальные ходы — такие как перемещение фигур через другие или проигнорировать правила шаха и мата. Эти ошибки иллюстрируют глубокий недостаток систем на базе нейросетей: они могут на словах описать правила, но не способны воплотить их в активные процессы контроля деятельности. Когда ChatGPT может объяснить, почему ферзь не может перепрыгивать через фигуры, но в игре совершает именно такой ход, становится очевидным расхождение между теоретическими знаниями и практическим применением. Динамичность и способность обновлять внутренние модели — ключевые черты когнитивного механизма, обеспечивающие адаптивность и адекватность поведения. Подобные модели лежат в основе рассуждений, решения проблем и даже элементарного понимания сюжета рассказа.
Например, когнитивная модель читателя развитого текста аккумулирует события, характеристики персонажей и причинно-следственные связи, чтобы создавать целостное представление. Генеративные модели не обладают такой структурой. Вместо того, чтобы хранить и обновлять внутреннее состояние на протяжении последовательности, они каждый раз генерируют текст, опираясь на вероятности и контекст, не поддерживая долговременную когерентность. Отсюда многочисленные ошибки в диалогах, забывчивость в рамках одной сессии и невозможность корректно отслеживать детали, без чего невозможна полноценная беседа или долгосрочное планирование. Проблемы отсутствия моделей мира выходят за рамки шахмат и разговорных систем.
Например, в области генерации изображений и видео наблюдаются схожие сбои. Многие современные генеративные модели создают визуальные артефакты, нарушения физики или анатомии — например, животное с лишними конечностями или неверное расположение объектов. Такие несоответствия происходят из-за отсутствия глубокого понимания того, что является нормой для данного объекта и как элементы должны взаимодействовать друг с другом в реальности. Без фиксированного функционального представления мира они не могут самокорректироваться и гарантировать адекватность результата. Видеоаналитика и понимание сложных событий также страдают от этого дефекта.
Автоматические системы зачастую не способны понять суть нестандартных или сложных сцен, таких как кража с участием обезьяны в движущемся автобусе, а лишь фиксируют поверхностные детали, теряя смысловую нагрузку. Такие промахи особенно опасны при применении ИИ в критически важных областях — безопасности, войне, правосудии. Самодельные эксперименты показывают, что ведущие модели до сих пор не способны точно отслеживать действия в простых играх вроде крестиков-ноликов с изменёнными символами. Они могут не заметить очевидное условие выигрыша и продолжать игру, демонстрируя столь базовые провалы, что вызывают серьёзные вопросы о степени понимания и способности к обучению на практике. В бизнесе и повседневной жизни отсутствие стабильных моделей мира проявляется в неспособности ИИ корректно выполнять задачи, требующие учета контекста и долгосрочных последствий.
Пример — симуляция управления магазином, где искусственный интеллект не умеет правильно учитывать прибыль, запасы или дисконтные программы, что ведёт к экономическим убыткам и нелогичным решениям. Подобные сбои связаны с отсутствием у системы понимания собственного положения и окружающего мира, что подтверждает дефицит когнитивной инфраструктуры. Важность адекватных моделей мира в контексте безопасности нельзя недооценивать. Современные нейросетевые системы слишком уязвимы к «взлому», когда с помощью специальных приёмов им можно «взломать» ограничения и заставить создавать токсичный или опасный контент. Без глубокого понимания смысла и контекста эти ограничения слабы и ненадёжны.
Анализируя всю эту совокупность сведений, становится ясно, что для достижения настоящего искусственного интеллекта уровня AGI (Artificial General Intelligence) необходимо вернуться к базовым принципам классического ИИ и когнитивной науки. Модели должны быть не просто статистическими агрегатами, а иметь структуры, позволяющие хранить, обновлять и интерпретировать знания о мире, интегрировать причинно-следственные связи и поддерживать стабильный внутренний контекст. Некоторые современные разработки ориентируются на комбинирование нейросетей и символических методов: именно такая гибридная архитектура может обеспечить адекватное управление внутренними представлениями и повысить надёжность и безопасность систем. Лидеры в шахматном ИИ, как Stockfish, используют нейросети для оценки ситуаций, но символические миры остаются основой для определения правил игры и возможных ходов. Вывод очевиден: несмотря на впечатляющие достижения генеративного ИИ в отдельных задачах, системный дефицит устойчивых, динамичных и интерпретируемых моделей мира ограничивает их способность к полноценному пониманию и надёжному выполнению сложных функций.
Для дальнейшего прогресса исследователям и разработчикам потребуется вернуться к интеграции классических концепций моделирования с мощью нейросетей и статистических методов. Только так можно будет преодолеть текущее состояние, когда генеративный ИИ демонстрирует феноменальный потенциал, но при этом остаётся уязвимым к фундаментальным ошибкам, поставив под вопрос его применение в критически важных сферах и безопасность человека.