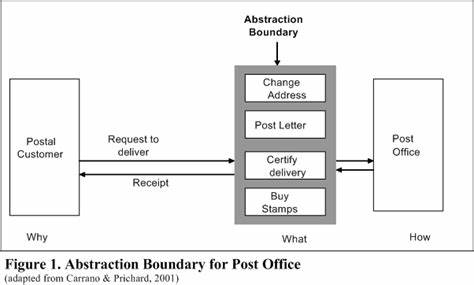Сэмюэль Пипс – имя, хорошо известное всем, кто интересуется историей, культурой и литературой XVII века. Его дневник, наполненный личными переживаниями, подробными описаниями событий и откровенными заметками, стал бесценным источником информации о жизни в эпоху английской революции и реставрации. Однако публикация дневника Пипса – это не просто выход текста в свет. Это удивительная история хитрости, осторожности и стратегий, благодаря которым тайные записи, долгое время скрывавшиеся от глаз других, нашли своих читателей и обрели всемирное признание. Датой, которую принято считать началом триумфа дневника, является 1825 год – примерно через два века после того, как Пипс вел свои записи.
Первое издание вызвало огромный резонанс. Современники тогда восприняли дневник как откровенный и честный рассказ, полный «приватных анекдотов», которые помогали читателям заглянуть во внутренний мир человека XVII века. Но многое в дневнике Пипса при написании было предназначено исключительно для его собственных глаз. Вел он записи в секретной системе короткого письма, опасаясь, что если тайны его записей выйдут наружу, это может навредить не только его репутации, но и карьере. Неудивительно, что среди текстов обнаруживаются критические замечания в адрес начальников, подробные рассказы о взятках и личная жизнь, включая сексуальные приключения, что в те времена было далеко не принято выкладывать на публику.
Пипс позаботился о том, чтобы дневник оказался в надежных руках после его смерти. В 1703 году, перед уходом из жизни, он завещал свою библиотеку Колледжу Магдалены в Кембридже, сделав это завещание ради пользы потомков. В эту коллекцию входил и его дневник, написанный системой шортхенда по методу Томаса Шелтона. Для непосвященного читателя дневник представлял собой лишь ряды непонятных символов с редкими прописными словами. К счастью, среди книг Пипса сохранились и обучающие пособия по этой системе.
Доступ к библиотеке и дневнику строго контролировался: только официальный руководитель колледжа имел право брать книги из хранилища и только для использования в своем рабочем кабинете. Нарушение этих правил грозило потерей прав на библиотеку. Таким образом, Пипс не только сохранил дневник, но и контролировал круг лиц, которые могли ознакомиться с его содержанием. Этот замысел создал немалые препятствия для тех, кто пытался пролить свет на тайны дневника в последующие века. Лишь спустя более века, в 1818 году, ситуация начала меняться.
Популярность дневника друга Пипса, Джона Эвелина, подтолкнула к мысли, что шесть томов Пипса также могут вызвать интерес у читателей. Несмотря на это, содержимое дневника неизменно оставалось сокрытым из-за малоизвестной системы записи. Тогдашний магистр Магдалены, Джордж Невилл, отправил первый том дневника своему родственнику лорду Гренвиллю, который смог разобрать начальные страницы и понял потенциал издания дневника как дополнения к знаменитому дневнику Эвелина. Этот этап связан с определенной долей хитрости. Гренвилль советовал нанять переводчика, который низкооплачиваемой работой дешево преобразует текст в английский язык, при этом его собственное участие в этом не афишировалось.
В результате к работе приступил студент Кембриджа, Джон Смит, которому потребовалось три года кропотливого труда для транскрипции записей. Хотя он получил скромную оплату в размере двухсот фунтов, именно он был признан первооткрывателем содержимого дневника, получив титул «расшифровщик». Позже возник спор о том, чью заслугу в разгадке системы стоит считать главной – Смит отстаивал свое единоличное право на это звание. Несмотря на общепринятое мнение о том, что система шортхенда оставалась нераспознанной, исследование работы Смита доказывает, что он использовал один из руководств по системе Шелтона, что позволило ему быстро и эффективно распознавать символы. Тем не менее, он предпочитал не раскрывать этот факт, что позволило ему сохранить эксклюзивность свои умений и увеличить собственный авторитет в этой области.
Редактором дневника стал брат магистра, лорд Брейбрук. Он занимался тем, что отбирал, какие части считать достойными опубликования. В итоге читателям была представлена лишь четверть от всего текста дневника. В предисловии Брейбрук объяснял необходимость таких сокращений избытком «мельчайших подробностей», но при этом не упоминал о масштабных удалениях откровенно непристойных и компрометирующих моментов. Отсутствуют упоминания не только о взятках, но и о личной жизни Пипса, что позволяло сохранить его репутацию и не навредить престижу колледжа.
Что касается издателя, им стал Генри Колберн – тот самый человек, который уже издавал дневник Эвелина. Колберн прослыл мастером скрытой рекламы, и после выхода дневника Пипса в СМИ появилась рецензия, которая казалась беспристрастной, но в то же время намекала на недосказанности и нераскрытые соответствующие части с откровенными деталями. Такое заявление одновременно убеждало покупателей в деликатности издания и разжигало интерес к потенциальным тайнам дневника. Таким образом, публикация дневника Пипса стала тщательно продуманным и хитроумным процессом. Каждый игрок – хранитель дневника, расшифровщик, редактор и издатель – сыграл свою роль в том, чтобы книга увидела свет, получила распространение и стала феноменом литературного мира.
Пипс остался в сознании общества как человек, создавший невероятно честную и захватывающую летопись своей эпохи. Но этот успех был возможен лишь благодаря бдительности, секретности и осмотрительности, сопровождавшим путь дневника к читателю. Сегодня дневник Пипса изучается не только как исторический документ, но и как пример сохранения литературного наследия, которому удалось преодолеть испытания временем, цензурой и социальными условностями. В мире, где цензура и общественные табу могут задавить правду, история публикации дневника Пипса напоминает о сложности и необходимости бережного отношения к сохранению и донесению до потомков подлинных свидетельств прошлого.
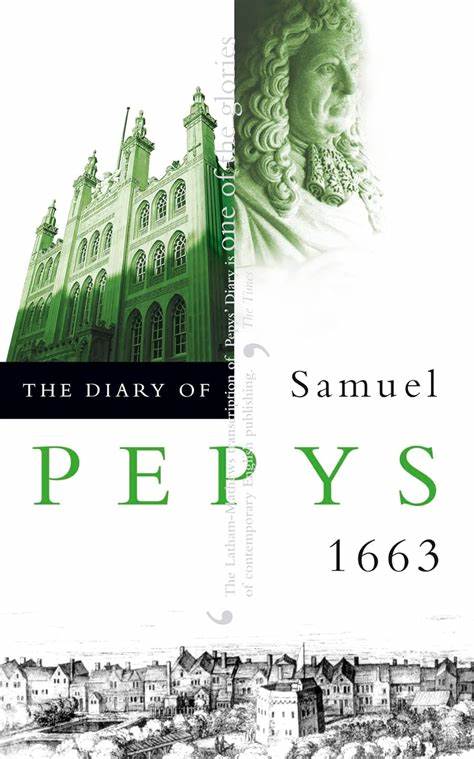


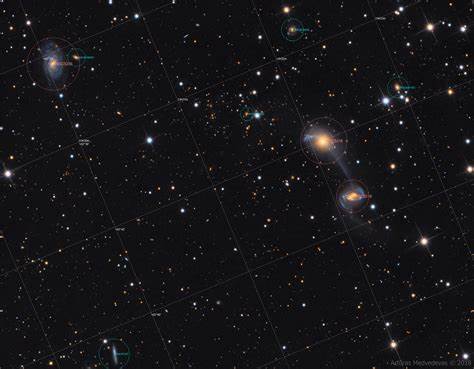
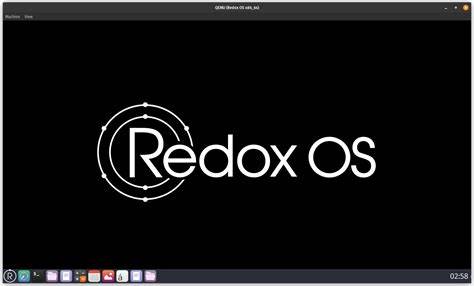
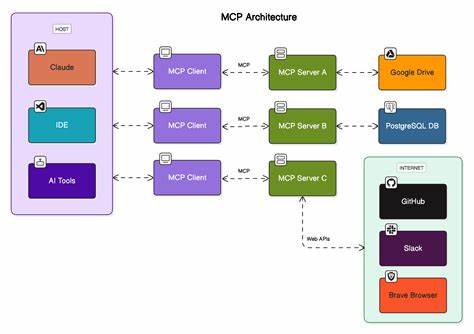
![How to Build Nuclear Fast [video]](/images/F2124CEE-30E5-41C4-B79A-F97E29004166)