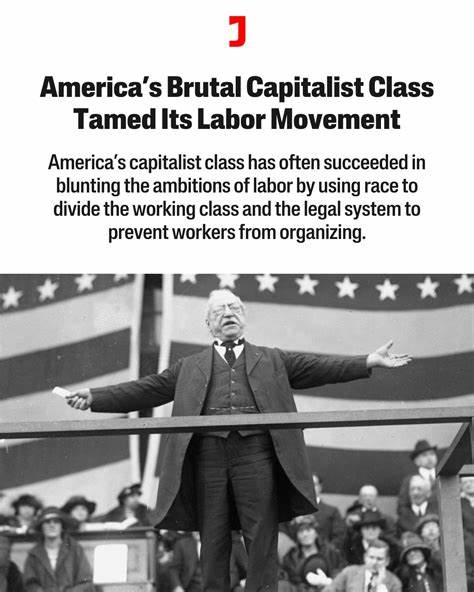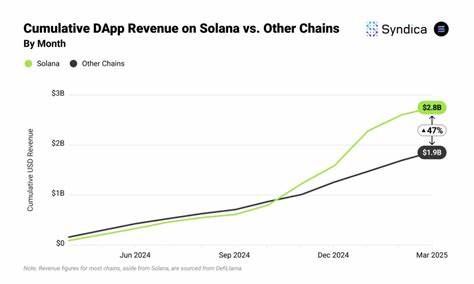Рабочее движение в Соединённых Штатах имеет свою неповторимую историю, которая отличается от традиций Европы и других развитых стран. Если в таких государствах, как Франция, Германия, Великобритания и Австралия, профсоюзы быстро стали влиятельными политическими игроками с масштабными требованиями к улучшению социальной системы, то в США они зачастую ограничивались внутренними вопросами и предоставлением страховых и прочих привилегий своим членам. Почему сложилась именно такая ситуация и какие исторические и социально-политические факторы на это повлияли? Чтобы понять это, необходимо обратиться к ключевым этапам формирования американского капитала и рабочего класса, а также к формам подавления профсоюзов, имевшим место в стране. В начале XX века, когда во многих европейских странах рабочее движение формировалось как политическая сила, в Соединённых Штатах американские профсоюзы, возглавляемые такими лидерами, как Самуэль Гомперс из Американской федерации труда, выбрали стратегию ограниченного участия, фокусируясь на коллективных договорах и предоставлении внутренних привилегий членам профсоюзов. В противовес этим целям во Франции Генеральная конфедерация труда активно боролась за владение средствами производства рабочими, а в Германии социал-демократическая партия становилась крупнейшей политической силой, отстаивая универсальные социальные льготы.
Даже в Великобритании и Австралии рабочие партии формировались для борьбы за интересы трудящихся на национальном уровне. Отличие американского подхода в том, что борьба профсоюзов никогда не выходила за рамки частных интересов, зачастую даже противоречащих интересам более широкого рабочего класса. Это обосновано историческими особенностями, включая расовые, этнические, религиозные и социальные разногласия среди самих рабочих. Рабочий класс в США с самого начала был чрезвычайно раздроблен, что мешало создать прочную и единую коалицию. Особенно заметно это проявлялось в глубоком расовом разделении, когда белые северные рабочие не могли сформировать союз с чернокожими трудящимися, столкнувшимися с дискриминацией и лишением избирательных прав.
Противостояние между этими групами усугублялось политикой и стратегиями работодателей, которые умело использовали расовые разногласия, чтобы посеять раскол и ослабить коллективные действия. Не меньшую роль сыграли волны иммиграции, которые привносили новые культурные и языковые барьеры. Многообразие рабочих в США стало серьезным препятствием для создания общей идентичности рабочего класса. Многие были вынуждены рассматривать себя как этнические сообщества вне работы, что ограничивало солидарность при коллективных действиях. В итоге рабочие зачастую идентифицировали свои интересы узко, ориентируясь на конкретные занятия, религию или национальное происхождение.
Помимо внутренней раздробленности, тяжелое бремя падало и на само рабочее движение со стороны государства и капитала. В США имели место беспрецедентные уровни насилия в отношении участников забастовок — от действий милиций до федеральных войск и полиционеров, открывавших огонь по протестующим. Известны яркие вспышки жестокого подавления, такие как дела по делам Хаймаркет и «Пуллманская» забастовка. Важным аспектом стало и законодательное регулирование. В то время как в других европейских странах работникам предоставлялись права на объединение и коллективные забастовки уже к началу XX века, в США лишь в период Нового курса (1935 год) были официально признаны права организовываться и бастовать.
До этого времени судебная практика жестко ограничивала рабочее движение — применение юридических постановлений типа запретов на забастовки, запретов на петиционные акции и бойкоты было распространенной практикой. Юридическая система, однако, предложила профсоюзам спасительный вариант выживания через предоставление страховых услуг — компенсаций за травмы, болезни, безработицу и другие риски. Именно с организации таких взаимных страховых обществ начинались многие ранние американские профсоюзы. Страховые фонды обеспечивали им легальный статус, позволяя существовать, несмотря на жесткие запреты на классовую борьбу. Но подобная стратегия имела свою обратную сторону: она ограничивала возможность организации и защиты наиболее уязвимых и низкооплачиваемых рабочих, которые не могли регулярно платить страховые взносы.
Таким образом, профсоюзы в США часто сосредотачивались на защите относительно привилегированных членов, которые уже занимали более стабильное положение на рынке труда, создавая своего рода «рабочую аристократию». Это укрепляло разделения в классе и не способствовало развитию массовой солидарности и политических требований, ориентированных на преобразование социальной системы. Данные тенденции сохранились и до середины XX века. Наряду с ростом взаимовыгодных страховых обществ и поддержкой частных систем социального обеспечения, американские профсоюзы всё больше концентрировались на предоставлении частных льгот своим членам, отходя от универсалистических политических проектов. Только в 1935 году закон Вагнера сделал возможным официальное признание профсоюзов и их права на забастовки и коллективные переговоры, что породило новый, более радикальный этап в американском рабочем движении.
Были выстроены интегрированные профсоюзы, активно вовлечённые в политическую борьбу, что стало толчком для ряда прогрессивных реформ и даже для начала борьбы за гражданские права. Однако радикальные успехи оказались недолговечными. Уже в 1947 году закон Тафта-Хартли значительно ограничил права профсоюзов, запретив ряд форм коллективных действий. Это снова заставило организации концентрироваться на обеспечении своим участникам страховых и социальных льгот, оставаясь в рамках частных программ и корпоративных договоренностей. Данный шаг усугубил раскол рабочего класса по признаку доступности социальных благ и ослабил политическое единство трудящихся.
С переходом к финансовой модели управления фондами профсоюзов в 1980-х годах их цели и задачи претерпели дальнейшие изменения. Теперь уже не яркие лидеры и массовые движения определяли политику союза, а эксперты с финансовыми инструментами, ориентированные на максимизацию доходов пенсионных и страховых фондов. Это создаёт парадокс, когда профсоюзы фактически становятся участниками капиталистической системы, а не движущей силой её трансформации. Тем не менее, история американского рабочего движения не ограничивается только компромиссами и уступками. В разные периоды именно профсоюзы были оплотом борьбы за гражданские права, справедливость, равенство и улучшение условий труда для самых обездоленных слоёв общества.
Современные лидеры и активисты, такие как президент профсоюза автосборщиков Шон Фэйн, стремятся возродить традиции классовой солидарности и общественной мобилизации, выступая против социальных и политических несправедливостей — войн, ограничения иммиграции, урезания социальных программ. Уникальный кровавый и политически враждебный климат, в котором развивалось американское рабочее движение, накладывает отпечаток и на современную ситуацию. Покорность части профсоюзов страховым функциям свидетельствует о том, что путь к солидарности и объединению рабочего класса в США — не простой. Однако история показывает, что создание эффективных классовых альянсов и борьба за универсальные права — возможны. В условиях финансовой экономики и растущего неравенства именно солидарность всех трудящихся, преодолевающая расовые, этнические и профессиональные барьеры, является устойчивым методом противостояния социальным и экономическим вызовам нынешнего времени.
Американский опыт подтверждает, что рабочее движение — это не только стремление к улучшению условий труда, но и непрерывная борьба за демократические права и социальную справедливость. В конечном счёте, стабильная и справедливая система социальной защиты требует совместных усилий от всего общества, что возможно лишь при условии сплочённости и активной политической позиции трудящихся.