Наука является движущей силой прогресса в современном мире, но не все области знания достигают одинаковой степени зрелости. Что отличает зрелую науку от тех дисциплин, которые на протяжении столетий находятся в стадии поиска? Ответ на этот вопрос лежит далеко за рамками поверхностных объяснений и требует понимания того, как появляются научные модели, включающие конкретные сущности, их характеристики и правила взаимодействия. Многие ошибочно полагают, что для того чтобы наука стала зрелой, достаточно описать какой-то механизм, построить схему с последовательными шагами или обозначить причинно-следственные связи. Однако создание механизма само по себе — это лишь начальный этап. Истинная зрелость науки выражается в понимании и формализации элементов, из которых состоит изучаемый объект или процесс, их свойств и правил, по которым они взаимодействуют.
Это не просто набор общих фраз, а строгая структура, способная объяснять наблюдаемые явления и предсказывать новые. Примером зрелой науки служит химия, история которой изобилует примерами перехода от алхимических догадок к строго регламентированным экспериментам и моделям. Жан Батист ван Гельмонт, живший в XVII веке, был одним из пионеров в исследовании веществ и процессов. Его исследования роста растений показали, что вес саженца увеличивается не за счёт почвы, как ранее предполагалось, но он неверно истолковал результаты, не сумев учесть вклад воздуха. Несмотря на значимость его экспериментов и вклада в терминологию (он ввёл термин «газ»), ван Гельмонт оперировал представлениями алхимии, не достигнув зрелого понимания сущностей и законов природы.
Между XVII и XVIII веками химия сделала качественный скачок, составив таблицу элементов и разработав механистические модели взаимодействия веществ. Именно с этого момента формируется основа зрелой науки — ясно определённые элементы (атомы, молекулы), их свойства (масса, заряд, валентность) и чёткие правила взаимодействия на основе законов физики и химии. Такой подход позволил не только объяснять наблюдаемые эффекты, но и делать точные предсказания, создавать новые материалы и технологии. Переход от простых описаний к структурированным моделям требует также ограничения множества сущностей. В природе количество фундаментальных элементов ограничено, и, даже если мы не знаем всех видов частиц или элементов, понимаем, что их конечное число существует.
Это существенно отличает научное мышление от импрессионистских, путанных наблюдений и интерпретаций без строгой системы. Например, несмотря на огромное разнообразие веществ и материалов, химия оперирует с конечным и (относительно) небольшим набором элементов, из которых строится всё в видимом мире. Несмотря на успехи химии, другие науки всё ещё находятся на пути становления. Биология даёт интересный пример комплексной дисциплины, в которой процесс зрелости идёт неравномерно. В одних областях биологии размеренно определяется набор сущностей, таких как молекулы, клетки, гены, а в других — категории остаются расплывчатыми и сложными для точного определения.
В начале биологии учёные могли только классифицировать виды, но понятие «вид» оказалось неустойчивым и не подходило для чёткого научного анализа. Открытие клеток Робертом Гуком и наблюдения Антони ван Левенгука помогли выявить объекты изучения на новом уровне, однако сами клетки, их типы и свойства пока что не представляют собой конечного и неизменного набора сущностей. В этом отношении биология ещё не достигла той ясности, которую имеет химия с её таблицей элементов. Прорывным стало появление теории эволюции Дарвина, которую можно рассматривать как фундаментальный закон природы, описывающий изменение организмов с течением времени через механизм естественного отбора. Но «сущности» и «правила» здесь намного более абстрактны — вариация и отбор распространяются на широкий спектр организмов и процессов, а их применение требует мощных моделей для конкретизации и анализа.
Генетика внесла огромный вклад в формализацию биологических сущностей. Открытие и описание генов, ДНК, РНК и аминокислот позволило смотреть на жизнь через призму конечного набора основных элементов и правил их взаимодействия. Это способствовало сдвигу с поверхностных классификаций, основанных на наблюдаемом месте локализации болезней или организмов, к молекулярному и генетическому уровню, который даёт более глубокое понимание и возможности вмешательства. На примере медицины видно, как зрелость науки меняет подходы. Раньше диагноз «рак лёгких» представлял собой единую категорию, теперь более эффективно рассматривать конкретные мутации, вызвавшие болезнь, что позволяет предлагать персонализированное лечение и прогноз.
Вместо широкой и нечеткой классификации исследователи переходят к точному описанию сущностей и правил, управляющих процессами болезни. Тем не менее биология останется сложной системой, в которой всегда будут исключения и много степени неопределённости. Но развитие технологий, таких как современные микроскопы, методы секвенирования генома, позволяют продвигаться вперёд, уточнять модели и формулировать более точные принципы, приближая биологию к зрелой науке. Психология в настоящее время едва ли может похвастаться своей зрелостью. В отличие от химии и частично биологии, она остается преимущественно импрессионистской дисциплиной — множество абстрактных терминов и моделей, которые описывают явления, не объясняя их в терминах конкретных сущностей и правил.
Многие психологические понятия оказываются тавтологиями, например, «властность» описывается через опросники, которые в свою очередь измеряют «властность». Отсутствие механистической модели приводит к тому, что психология часто опирается на названия и классификации, которые не являются научными конструкциями в полном смысле слова. Идея найти «периодическую таблицу» для психологии звучит необычно, но вполне логично, учитывая, что мозг и сознание в конечном итоге построены из конкретных элементов и подчиняются определённым принципам. Разработки в области когнитивных наук, нейробиологии и искусственного интеллекта пытаются приблизиться к этому, моделируя деятельность мозга с помощью нейросетевых алгоритмов, управляемых базовыми правилами. Однако пока что модели нейросетей остаются приближениями — они могут выполнять функции, похожие на человеческие, но не обязательно отражают механизмы, на которых основан мозг.
Это приводит к необходимости дальнейших исследований и уточнений в психологии. Исторический пример из инженерии — изобретение регулятора скорости паровой машины Джеймсом Ваттом — демонстрирует, как понимание и применение правил и обратных связей позволяют системам работать автономно и устойчиво. В психологии, возможно, будущее связано с выявлением и моделированием подобных систем управления, которые лежат в основе поведения, памяти и мотивации. Таким образом, путь к зрелости любой науки лежит через чёткое определение сущностей — конкретных объектов или процессов, описание их свойств и формулировку правил, по которым они взаимодействуют и изменяются. Это позволяет создавать модели, объяснять сложные явления и делать предсказания, что отличает настоящее научное знание от на первый взгляд убедительных, но поверхностных теорий и догадок.
Современные вызовы и достижения науки требуют всё более глубокого понимания её фундаментальных элементов. Переход от описания к объяснению, от абстракций к конкретным и измеримым объектам означает подлинное развитие дисциплины, приближающее нас к пониманию окружающего мира и себя в нём. Независимо от того, речь идёт о химии, биологии или психологии, цель остаётся одна — строить модели, способные не только фиксировать, но и предсказывать, позволяя науке оправдывать своё имя как инструмент объективного познания.





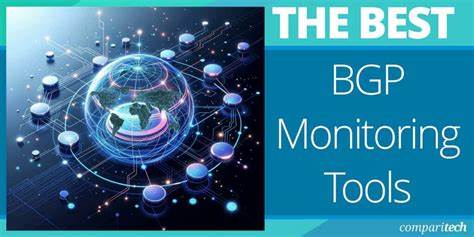
![We Built an Auto-Aiming Trash Can [video]](/images/D15722CD-EDDA-4DE0-93B5-EF27787F13C0)
![Tesla Q2 2025 Update – biggest quarterly revenue decline in more than a decade [pdf]](/images/61A39A8E-4272-459F-AC88-4A18F02E7AC4)
