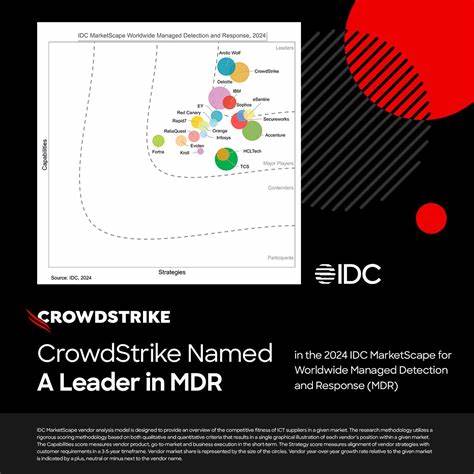Президентская кампания Дональда Трампа в 2020 году сопровождалась множеством ярких заявлений, грозных прогнозов и эмоциональных выступлений. Однако именно то, что он не произносит вслух, нередко становится ключом к пониманию его политической стратегии и внутренней позиции. NBC News в своём аналитическом материале подчеркивает, что существует так называемая «тихая часть» — некий скрытый подтекст, о котором Трамп не смеет говорить публично, но который глубоко влияет на его подход к выборам и коммуникации с избирателями. Разберёмся, что именно скрывается за этими немыми словами и почему их нельзя игнорировать в понимании текущего политического ландшафта США. Одной из центральных идей, которые Трамп неожиданно не озвучивает напрямую, является признание своего права и власти в настоящем моменте.
Несмотря на громкие заявления о будущем и обещания восстановить экономику и единство страны, он избегает четкого признания: сейчас он именно тот, кто управляет страной, именно при его руководстве разворачиваются события, формирующие политическую и социальную реальность США. Признание этой власти могло бы подорвать ключевой элемент его кампании — попытку представить себя вызовом статус-кво и создателем альтернативы, которой ещё нет. Эта стратегия обусловлена тем, что многие аспекты текущего положения дел в стране далеки от идеальных, а ответственность за них лежит на действующем президенте. Во время выступлений на съезде Республиканской партии, Трамп акцентировал внимание на своих успехах и планах будущего. Он говорил о том, как американская экономика должна вновь стать величайшей в истории, как необходимо обеспечить безопасность страны, защитить её ценности и вызвать в гражданах новую волну патриотизма.
Тем не менее за этими словами скрывается парадокс: все эти обещания подразумевают, что нынешнее положение дел далекое от желаемого. Тем самым создаётся впечатление, что Трамп пытается вести борьбу не как действующий глава государства, управляющий настоящим, а как уставший кандидат, мечтающий вернуть утраченную славу. Эта недосказанность порождает фундаментальный разрыв в коммуникации с избирателями. Трамп фактически пытается переиначить реальность, представляя её как угрозу, грозящую распадом и хаосом, если победит оппонент. Интенсивное нагнетание страха по поводу «беспорядков» в городах, пандемии коронавируса и экономического кризиса создает у его сторонников чувство, что только он способен противостоять этим бедствиям.
Однако на самом деле те проблемы, которые он описывает как страшный сценарий будущего под властью соперника, уже во многом имеют место при его собственном руководстве. Это создает странную ситуацию, когда Трамп одновременно выступает и как властелин явлений, и как их критик, заявляя, что проблемы являются следствием «других» сил — демократов, чиновников из глубинного государства, иностранных государств. Особенно показателен тот факт, что Трамп обвиняет в проблемах и беспорядках своих политических оппонентов и их поддержку протестных движений, которые выступают за социальную справедливость, в то время как сам он не раз усугублял напряжённость резкими высказываниями и поддержкой консервативных и агрессивных настроек. Таким образом, стратегия построена на двойном посыле: демонстрировать себя защитником порядка и стабильности, одновременно не признавая своей роли в возникших проблемах. Для многих наблюдателей такое поведение кажется противоречивым и даже циничным.
Поддержка менее чем половины электората указывает на раскол в обществе, который за годы президентства Трампа только углубился. Вместо того чтобы искать пути к конструктивному диалогу и объединению, политический дискурс заметно поляризуется. Интересно, что эта поляризация является одновременно и результатом, и инструментом избирательной тактики Трампа. Его стратегия фокусируется на сохранении лояльной базы, подогреве страха перед переменами и демонстрации сильной руки, которая якобы способна защитить традиционные национальные ценности и порядок. Нельзя не отметить и роль пандемии COVID-19, которая поставила администрацию Трампа в крайне сложное положение.
Вопреки первоначальным заявлениям о быстром и успешном управлении кризисом, число заболевших и погибших достигло рекордных показателей. Экономика была вынуждена испытывать мощнейший спад, а миллионы американцев потеряли работу. Несмотря на это, в своих публичных посланиях президент настойчиво продолжал подчеркивать успешность своих действий и обвинять внешние факторы и политических оппонентов в создании проблем. Такая риторика, по сути, является признанием того, что успехи достигнуты не им лично, а что большинство сложностей возникло именно при его руководстве — однако это признание так и остается заключённым в «тихой части», которую он «не осмеливается сказать». Ещё одним важным аспектом, скрытым за словами кампании Трампа, является сложная дилемма власти и ответственности.
Признавая, что он уже является президентом, пришлось бы брать на себя полную ответственность за все возникающие проблемы. Вместо этого фактическое отрицание этой ответственности позволяет продолжать обвинять в хронологических несостыковках и сложностях «врагов Америки» и «глубинное государство», а также внешние силы, что служит мощным инструментом мобилизации политической базы и отдаления критики. Стратегия молчания по ключевым вопросам, пожалуй, стала характерной чертой этой избирательной кампании. В то время как Трамп известен своей склонностью говорить открыто, часто переходя на провокационный язык в социальных сетях и обращениях к массам, в вопросах, касающихся своего реального положения и достижений, он выбирает дипломатичную тишину. Этот шаг можно рассматривать как признание главного противоречия: он одновременно хочет позиционировать себя как бесспорного лидера, ответственного за успехи, и как кандидата, выступающего против сложившейся системы проблем и кризисов.
Таким образом, кампанию Дона́льда Трампа 2020 года нельзя понять без внимания к тому, что остается невысказанным. Этот «тихий посыл» отражает глубинные страхи и политические тактики, которые направлены на удержание власти, даже если факты и реальность работают против кандидата. Такая ситуация подталкивает к осознанию необходимости более продуманного и честного политического диалога, в котором признание сложностей и ответственности за ошибки становится первым шагом к поиску решений и единству в сложные времена.