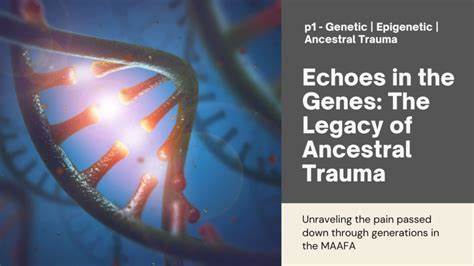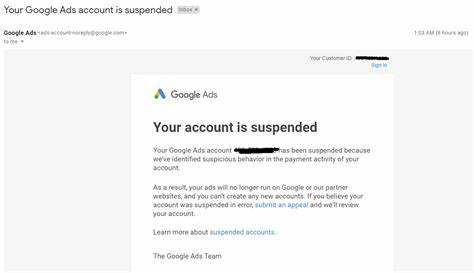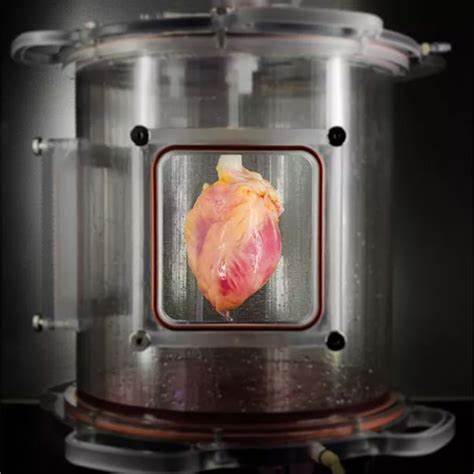Генетическое наследие травмы — сложная и многогранная тема, которая заставляет задуматься об истоках влияния пережитых человеком событий не только на его собственное здоровье и психику, но и на судьбы последующих поколений. Как молекулярный биолог, я изучаю, каким образом травмы, пережитые отдельными сообществами, отражаются в том, какие гены у них «включаются» или «выключаются». Этот процесс носит название эпигенетики — наука о том, как окружающая среда влияет на функционирование генов без изменения самой наследственной информации. На первый взгляд может показаться, что переживания и стрессы — вещи сугубо психологические, но исследования показывают, что травмы буквально записываются на молекулярном уровне. Это открывает возможность не только понять причины многих заболеваний, но и разрабатывать более эффективные методы лечения и профилактики, основываясь на индивидуальных биологических особенностях человека и его истории.
Позвольте мне рассказать, как я оказалась в центре этих исследований. Я — профессор молекулярной биологии, долгое время работаю в Иордании, где преподаю и занимаюсь научной деятельностью. Мои корни — в Палестине и Сирии, и лично я понимаю, что такое переживание травмы, вызванной войной, изгнанием и насилием, поскольку моя семья испытала это на себе. Мой отец — из Иерусалима, тоже был вынужден покинуть родные места, мой род связан с множеством исторических событий, которые заставили меня с детства задумываться о влиянии исторических травм на людей и их потомков. В моей научной работе я сосредоточилась на изучении уязвимых сообществ, таких как сирийские беженцы, которые пережили ужасы войны и вынужденного переселения.
Главный вопрос: можно ли увидеть «отпечатки» травматических событий в их организме на генетическом уровне? Могут ли эти метки передаваться детям и внукам? И если да, то можно ли каким-то образом обратить эти процессы или смягчить их последствия? Чтобы ответить на эти вопросы, я начала с изучения биохимических маркеров стресса. Например, гормон кортизол известен своей ролью в реакции организма на стресс. Его уровень повышается во время острых стрессовых ситуаций, а снижение после переживания считается хорошим признаком адаптации. Однако реальный мир сложно вписать в простую схему подъема и снижения гормонов. Травма, особенно когда она длительная и многослойная, воздействует на организм гораздо глубже, меняя сложные регуляторные механизмы, которые контролируют активность генов.
Эпигенетика — это новая волна в биологии, которая позволяет увидеть, как окружающая среда, включая психологический стресс, влияет на ДНК, включается или выключает те или иные гены, не меняя саму наследственную последовательность. Особенно захватывающим является вопрос о том, передаются ли эти изменения от родителей к детям и дальше. Есть данные, например, из исследований на животных, что подобное возможно. Тем не менее проведение аналогичных исследований на людях сложно — этический аспект, длительные сроки, сложность получения достоверных данных. Однако благодаря тесному сотрудничеству с разными сообществами, которым довелось пережить долгий период травм, мы смогли построить уникальные исследования.
Одним из таких примеров стали сирийские семьи, чьи бабушки пережили трагические события в 1980-х годах. В этих исследованиях анализировались три поколения — бабушки, их дочери и внучки, чтобы выяснить, какие именно изменения в активности генов сохранились и передались далее. Результаты заставили по-новому взглянуть на феномен травмы как нечто не просто вредное, но и потенциально трансформирующее. Мы обнаружили, что в разных поколениях выявляется активность различных генов, которые ранее не были связаны с какими-то конкретными биологическими путями — это говорит о том, что влияние травмы сложно свести к простому описанию болезни или расстройства. Скорее, оно проявляется в виде комплексного, многоуровневого воздействия, затрагивающего функциональную регуляцию организма и его реакцию на окружающую среду.
Этот подход позволяет понять, что человеческий организм обладает удивительной адаптивной способностью. Ведь если бы травма передавалась только негативным образом, мы, вероятно, не выжили бы как вид. Наоборот, проявляется своего рода «генетическая память», которая даёт возможность будущим поколениям подготовиться к непредсказуемым угрозам и приспособиться к новым условиям. Именно в этом я вижу надежду и фундамент для изменения отношения к посттравматическим состояниям — не только как к патологии, требующей лечения, но и как к проявлению силы, способности к адаптации и выживанию. Мои исследования также подтверждают необходимость интеграции научных подходов и участия самих сообществ — именно вовлечённость людей, переживших травмы, помогает глубже интерпретировать полученные данные и сделать их более значимыми для простых людей.
Метод инклюзивности и построения доверия является ключевым элементом успеха в подобных проектах. Важно, чтобы люди не просто были объектами изучения, а стали соавторами исследований, могли получить результаты, понять их и использовать для улучшения собственной жизни. Одним из инструментов, который я разрабатывала и использовала для смягчения травматического воздействия, стала инициатива «We Love Reading» — программа, которая побуждает взрослых читать детям вслух на их родном языке, знакомить с культурой и историей через книги. Показано, что регулярное чтение вслух не только развивает критическое мышление и эмоциональную устойчивость у детей, но и оказывает положительное влияние на биохимические процессы, связанные со стрессом. Более того, такие простые и доступные вмешательства помогают обратить эпигенетические изменения, то есть уменьшить негативные последствия травмы на генетическом уровне.
Вся эта работа имеет важные социальные, медицинские и политические последствия. Она говорит о том, что борьба с последствиями войн, насилия и миграции должна выходить далеко за рамки психологии и социального обслуживания. Необходимо включать генетику и молекулярную биологию в комплексные стратегии поддержки пострадавших сообществ. Инвестиции в исследования и разработку программ, которые помогают уменьшить или перевернуть следы травмы в организме, могут значительно улучшить здоровье и качество жизни миллионов людей. Также эта область помогает воспитывать более глубокое понимание человеческого разнообразия.
Травма не делает человека однозначно уязвимым и беззащитным, она может служить источником силы и изменений. Это суть того нового научного взгляда, который я неустанно продвигаю: человек — не просто жертва, а существо, способное адаптироваться, развиваться и даже создавать позитивные перемены несмотря ни на что. Изучение генетического наследия травмы — не просто научный вызов или академический интерес. Это личный и профессиональный путь, связанный с историями миллионов беженцев и пострадавших, живущих рядом с нами. Именно через научное понимание и практические действия мы можем двигаться к более справедливому и человечному миру, где прошлое служит не вечным грузом, а фундаментом для развития и процветания всех поколений.
Моя мечта — чтобы будущие поколения жили в мире, где травма воспринимается не как приговор, а как часть пути к взаимодействию, взаимопониманию и общей эволюции человечества.