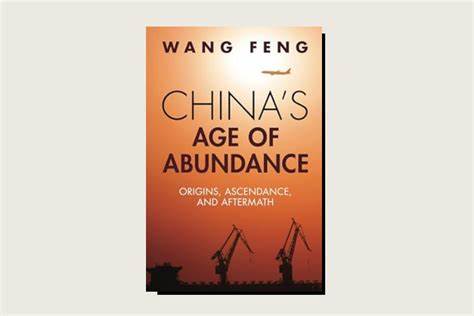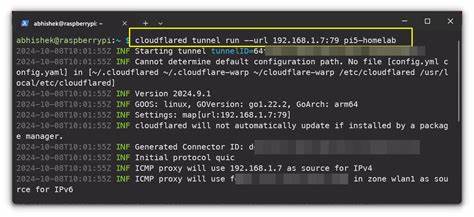В последние годы интерес к китайской технологической и социальной модели растет. Это не только следствие экономического роста Китая, но и результат сложных культурных и институциональных процессов, которые отделяют эту страну от западных представлений о развитии и прогрессе. Одним из ярких примеров попыток понять и переосмыслить американскую реальность через призму китайского опыта стало совместное чтение книги «Изобилие» (Abundance), организованное китайской диаспорой и специалистами, которые находятся на стыке культур и ценностей двух стран. Этот опыт позволяет глубже взглянуть на зарождающиеся идеи техно-оптимизма, экологического развития и производственной трансформации, а также раскрыл важные противоречия и ограничители во взглядах на будущее. Обсуждение книги проходило на мандаринском языке, что сразу задавало довольно специфический культурный контекст: большинство участников — люди, родившиеся и выросшие в Китае, позднее получившие образование на Западе и сейчас работающие в сфере технологий, права и инвестиций.
Благодаря такому составу дискуссия позволила по-новому взглянуть на внутренние противоречия американской политики и мягкой силы культурных паттернов, которые влияют на развитие общественной жизни и технологических инноваций. Одним из ключевых инсайтов стало то, как ограничена американская фантазия о «хорошей жизни». Американская мечта, на которой базируется большая часть общественной идеологии, по-прежнему опирается на владение частным жильем с прилегающим участком и автомобилями — модели, в которых доминирует индивидуализм и недоверие к общественным системам. Такое представление создает серьезные культурные препятствия для развития того, что авторы обсуждения называют более «публичным» и экологичным стилем жизни — с упором на публичный транспорт, плотную урбанистику и совместное использование ресурсов. Примером для многих американских политиков стал японский скоростной поезд Синкансэн, построенный при участии Всемирного банка в 1960-х годах.
Удивление высокопоставленных делегатов США исходило скорее из отсутствия реального знакомства с подобной инфраструктурой, нежели из технической новизны. Этот эпизод ярко демонстрирует, насколько глубоко укоренены в США представления о некой «устаревшей» модели жизни и организации городской среды, что порождает трудности с внедрением прогрессивных инфраструктурных проектов. Поскольку многие уважаемые ученые и специалисты из США сохраняют отношение к городам как к «опасным и грязным» пространствам, они склонны идеализировать пригородные районы, упуская из вида глобальный тренд развития плотных, безопасных и удобных для жизни мегаполисов. Этот культурный барьер стал одним из главных факторов, проливающих свет на причины стагнации многих амбициозных проектов и концепций, направленных на трансформацию американской городской среды. На этом фоне особенно важно отметить, что образ Китая как «авторитарного» при обеспечении общественного порядка воспринимается многими в США с предубеждением.
Восприятие безопасных улиц в Пекине как результата жестких репрессивных мер отражает глубоко укоренившиеся в американском сознании бинаральные установки, разделяющие свободу и порядок как взаимоисключающие значения. Такая точка зрения ошибочна и опасна, поскольку отвергает возможность создания безопасных и в то же время демократически управляемых городов. Примеры из Токио, Сеула и Амстердама показывают, что такой симбиоз возможен и успешен. Эксперты также обсуждали разницу в институциональных подходах США и Китая. По мнению некоторых участников, американская система управления сегодня напоминает устаревшее программное обеспечение на фоне быстрорастущих социальных вызовов и усложненной реальности.
Китайское государственное управление, несмотря на свои недостатки, зачастую использует более современные инструменты коммуникации и взаимодействия, например, через WeChat, что повышает скорость принятия решений. Но с другой стороны, в Китае есть проблемы, связанные с излишним формализмом и избыточным административным контролем, которые могут препятствовать инновациям и гибкости. Тема взаимодействия между технологическим развитием, промышленным производством и инновациями также была расширена через разговоры о производственных секретах. В частности, обсуждалась важность «неявных знаний» — тех умений и опыта, которые нельзя просто записать и передать, а которые накапливаются на практике в ходе долгой производственной деятельности. Китайские участники подчеркнули, что американская попытка восстановить производственную мощь без учета титанической работы по освоению этих знаний с китайской стороны будет обречена на сложности.
В этом контексте критически важной стала история с литий-ионными батареями, где американские технологические открытия не сопроводились масштабным и системным развертыванием производства. Однако были и противоположные мнения, акцентирующие мобильность и быстрое воспроизводство производственных процессов. Производство, по их мнению, по своей природе масштабируемо и может осваиваться в разных странах при наличии определенных условий. Но также было признано, что китайский город Шэньчжэнь уникален как высококонцентрированный индустриальный и технологический хаб, и воспроизведение его экономической экосистемы — задача не из легких. Специфическое внимание уделялось и сложным отношениям между политикой и экономикой на уровне местных американских сообществ.
Иногда даже небольшие города сталкиваются с противоречиями: с одной стороны, им нужны инвестиции, рабочие места, развитие, а с другой — здесь же возникают подозрения, особенно если инвестиции идут из Китая. Это создает сложный двойственный контекст, в котором взаимодействие между двумя странами замутняется не только глобальными стратегическими интересами, но и локальной политической конъюнктурой, ментальными барьерами и недоверием. Интересным и актуальным наблюдением стало сравнение Китая и США с «два обывателя, которые беспрестанно смотрят друг на друга через отфильтрованные соцсети», не понимая реальных вызовов и сложностей, стоящих за увиденными образами. Такой процесс «донесения» друг до друга только самых ярких и приукрашенных моментов порождает недопонимание и зависть, а также нереалистичные ожидания. Тем не менее, участники чтения не скрывали и критики, демонстрируя понимание глубинных проблем в китайской модели.
Экологические последствия промышленного развития, ограниченная прозрачность и участие общества в экологическом контроле создают множество вопросов, которые часто обходятся вниманием западных обозревателей, мечтающих лишь «вдохновиться» китайским успехом. Из этого вытекает призыв к более взвешенному, критическому отношению и отказу от наивных идеализаций. В обсуждении прозвучал и рассказ о тревогах вокруг женской рабочей силы на китайских фабриках — о тяжелых условиях труда, лишении личной идентичности и ограниченных жизненных перспективах сотен тысяч молодых женщин, работавших и работающих на производстве. Эти истории, широко освещаемые в китайском интернет-пространстве, ставят вопрос о высоких социальных издержках масштабной индустриализации, которые в странах Запада часто остаются за кадром разговора о технологиях и производстве. Между тем американская инновационная экосистема переживает своеобразное переосмысление, где появляется новый интерес к старым отраслям и обороне, что отражается в возникновении стартапов в области защиты от дронов и внедрения промышленных технологий в современные социальные пространства.
Это говорит о том, что хотя инновационные процессы и проходят по-разному, у обеих стран есть уникальные сильные стороны и модели развития. Дискуссия, сложившаяся в ходе чтения «Изобилия» в китайской среде, является ценным примером того, как необходимо смотреть на технологические и социальные проблемы современности через многогранную призму культур, политик и экономик. Она подчеркивает, что решение задач устойчивого развития, экономического возрождения и социальной справедливости требует отказа от упрощенных представлений и включает в себя глубокое понимание социокультурных контекстов. В итоге, чтение и обсуждение «Изобилия» показывают, что будущее мирового технологического уклада и общественного устройства не может быть построено только на технических инновациях и институциональных реформы. Необходимы также трансформации в культуре, воображении и восприятии того, что значит «хорошая жизнь».
Только осознание общих ценностей и различий между моделями развития Китая и США, а также умение критически оценивать сильные и слабые стороны обеих систем, создадут почву для подлинного прогресса и взаимопонимания.