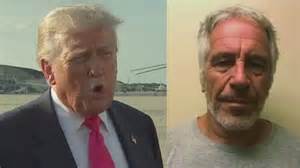Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в ходе своего шестидневного визита в Китай пытается укрепить и стабилизировать отношения между двумя странами. На первый взгляд, такие попытки должны приносить положительный эффект: улучшать взаимопонимание, снижать напряжённость и создавать более предсказуемую среду для экономического и политического сотрудничества. Однако опыт последних лет показывает, что подобные шаги едва ли могут существенно повлиять на стратегическое поведение Пекина. История взаимоотношений Австралии и Китая насчитывает десятилетия и начинается с посещения Китая премьер-министром Гофом Уитламом в 1973 году. В политическом сознании Австралии эти связи всегда балансировали на тонком фоне между экономическими интересами и стратегической осторожностью.
Сегодня правительство Албаниза стремится следовать примеру Уитлама, основываясь на убеждении, что диалог и обмен визитами создают фундамент для долгосрочного сотрудничества. Несмотря на эти усилия, «стабилизация» отношений не меняет принципиальных позиций Китая. Анализируется, что экономические уступки или дипломатические жесты страна воспринимает скорее как проявление слабости, а не как знак готовности к компромиссам. Например, после нескольких лет попыток Австралии наладить позитивный диалог Китай ответил демонстрацией военной мощи – пришёл флот военных кораблей, совершивших кругосветное плавание вокруг Австралии с проведением учений с боевой стрельбой, что вызвало значительные неудобства в гражданском воздушном движении и подчеркивало способность Китая демонстрировать силу вблизи берегов Австралии. Такие действия являются мощным сигналом для Австралии и её союзников, указывая, что Китай готов к демонстрации военной силы в регионе, несмотря на дипломатические разговоры.
Российский, американский, японский и индийский опыт показывает аналогичные тенденции: несмотря на поддержание канала связи с Пекином, глубоких сдвигов в поведении Китая не произошло. Визиты высокопоставленных политиков и даже совместные экономические проекты не привели к отказу от агрессии в спорных регионах, включая Южно-Китайское море, и не снизили напряжённость вокруг Тайваня. Одной из проблем является то, что в рамках диалога избегается острых тем, связанных с национальной безопасностью. Встреча премьер-министра Албаниза с президентом Си Цзиньпином не содержала существенной дискуссии о военных вопросах, прозрачности в отношении военных операций или о необходимости сохранять безопасность и свободу морских путей в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай предлагал идею «искать общее, разделяя различия», однако конкретные соглашения, касающиеся ограничения конфликтов или соблюдения международных норм, так и не были достигнуты.
Излишняя осторожность в высказываниях австралийского лидера также воспринимается как попытка сгладить конфликт, но она не помогает изменить реальное поведение Китая. Так, несколько комментариев относительно отсутствия нарушения международного права со стороны Китая во время его военных учений воспринимаются как оправдания унижения, полученного Австралией. В итоге формируется впечатление, что Австралия «делает вид», что угрозы отсутствуют, что снижает её переговорные позиции и доверие внутри страны. В последние десятилетия многие страны руководствовались предположением, что нарастание экономических связей открывает путь к более тёплым политическим отношениям. Однако Китай демонстрирует, что экономическая выгода не обязательно влечёт за собой изменение внешнеполитической линии.
Наоборот, растущая экономическая зависимость ещё больше увеличивает уязвимость стран перед давлением и манипуляциями со стороны Пекина. Австралия рискует оказаться в ситуации, когда она меняет свои внутренние и внешние политики, делая уступки и идущие вразрез с национальными интересами принципами, в то время как Китай не изменит своей позиции и продолжит подтверждать статус великой державы с амбициями господства в регионе. Тем не менее, идея стабилизации отношений всё ещё имеет важное значение в современной дипломатии. Поддержание диалога даже в условиях напряжённости позволяет лучше понимать мотивации и ограничения каждого из участников, снижать риски непреднамеренных конфронтаций и оставлять открытыми каналы для переговоров. Но важно, чтобы эта политика не стала самоцелью и не превратилась в одностороннее смягчение позиции.