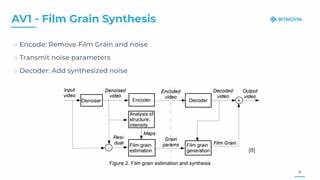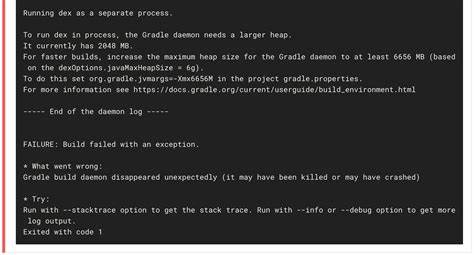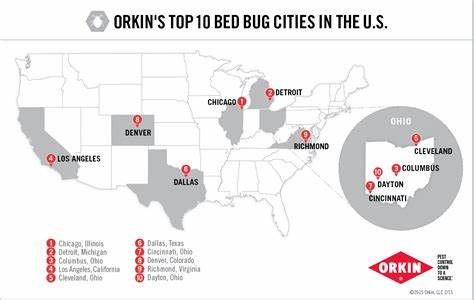В последние годы искусственный интеллект стремительно занимает ключевые позиции в бизнес-стратегиях мировых корпораций. Однако новый тренд на рынке — это когда генеральные директора не просто упоминают использование ИИ, а акцентируют внимание на конкретных процентных показателях, указывающих, какую долю работы внутри компании выполняет искусственный интеллект. Именно так ходят «CEO флексы» — утверждения, которые одновременно служат демонстрацией технологического лидерства и призваны повысить инвестиционную привлекательность их организаций. В центре внимания находятся такие гиганты, как Salesforce, Microsoft и Google. Марк Бениофф, глава Salesforce, заявил, что ИИ выполняет до 50% всей работы в компании, включая ключевые функции как инженеринг, программирование и клиентскую поддержку.
Аналогичные заявления сделали Сатья Наделла из Microsoft и Сундар Пичай из Google, уточнив, что до 30% кода теперь создается с помощью AI-инструментов. На первый взгляд, эти цифры выглядят впечатляюще: полсотни процентов работы, сделанной машиной — это своего рода «цифровая революция», преподнесенная как новый стандарт эффективности. Однако за кажущейся уверенностью скрывается множество неясностей, вызывающих вопросы экспертов и аналитиков. Как именно измеряется участие ИИ? Какие процессы входят в эти проценты? Насколько эти данные отражают реальное положение вещей, а не служат PR-инструментом? Проблема начинается с отсутствия единого стандарта оценки вклада ИИ. Для того чтобы говорить о проценте «выполненной работы», необходимо сначала определить несколько важных параметров: что именно считается работой, какие метрики использовать — количество написанного кода, сэкономленные часы, выполненные задачи или бизнес-результаты, на которые повлиял ИИ.
В настоящее время такой общепринятой методологии просто не существует. Специалисты в области управления персоналом и человеческого капитала, как, например, Малвика Джетмалани, подчеркивают, что показатели CEO не дают однозначного ответа на вопрос, как именно посчитан вклад ИИ. Когда речь идет о программировании, можно подсчитать строки кода, предложенные ИИ, но это не всегда равнозначно успешному и принятым в эксплуатацию софту. Речь может идти о предложениях, часть которых игнорируется опытными разработчиками, а часть исправляется до неузнаваемости. Сходным образом ситуация обстоит и с другими сферами.
Бениофф рассказывал об участии ИИ в соавторстве корпоративного плана Salesforce, однако так и не уточнил, что именно включал этот вклад — было ли это предложение структуры документа или полноценная генерация текстов, встроенных в финальную версию. Без всех этих деталей цифры могут вводить в заблуждение и формировать поверхностное восприятие. В рамках подкаста Лекса Фридмана Сундар Пичай рассказал, что AI-инструменты, такие как Goose, увеличивают продуктивность инженеров Google на 10%, вычисленную на основе сэкономленных часов. Но здесь возникает другая тонкость — предполагается, что инженеры используют освободившееся время для дополнительной работы, а не для отдыха. Это еще один пример того, насколько непросты и многогранны попытки количественно охарактеризовать влияние ИИ.
Публичные заявления CEO оказывают значительное влияние на восприятие рынком и инвесторами. Объявление о том, что искусственный интеллект отвечает за четверть или половину задач внутри компании, воспринимается как сигнал о технологическом превосходстве и возможности оптимизации расходов. В долгосрочной перспективе подобные показатели косвенно намекают на возможные сокращения штата или пересмотр ролей сотрудников под эгидой повышения эффективности. Кроме того, эти цифры служат инструментом привлечения новых клиентов. Когда Microsoft, Google или Salesforce звучно декларируют интеллектуальные достижения в области AI, их клиенты понимают, что пора также инвестировать в искусственный интеллект, иначе рискуют остаться позади конкурентов.
Тем не менее важным остается критический взгляд на «AI-метрики», используемые CEO. Без прозрачности и внешней верификации цифр даже самые впечатляющие показатели могут оказаться маркетинговым ходом, призванным повысить статус и инвестиционную привлекательность компании, а не отражать реальную картину эффективности и экономии. Еще одной интересной темой является социально-экономическое воздействие такого подхода. Если действительно автоматизация способна выполнять до 50% работы, возникает вопрос о будущем человеческого труда в компаниях. Как будет меняться роль сотрудников? Какие новые компетенции придется осваивать? Каким образом компании планируют взаимодействовать с ИИ, чтобы сохранить мотивацию и занятость сотрудников? Эксперты в области управления и цифровой трансформации отмечают, что искусственный интеллект сегодня — скорее инструмент поддержки, нежели замены человека.
Высококвалифицированные специалисты остаются ключевым звеном, особенно в креативных, стратегических и управленческих задачах. Однако задачи рутинного характера и повторяющиеся процессы действительно уходят под контроль алгоритмов, что позволяет бизнесу перераспределять усилия и ресурсы на сложные проекты. Современный этап внедрения ИИ напоминает прежние волны технологических революций — от промышленной автоматизации до развития компьютеров. Каждое такое изменение вызывает баланс между страхами перед потерей рабочих мест и ожиданиями новых возможностей и роста. Как и раньше, успешные компании смогут найти золотую середину, эффективно используя ИИ для увеличения производительности и инноваций, сохраняя при этом человеческий капитал.