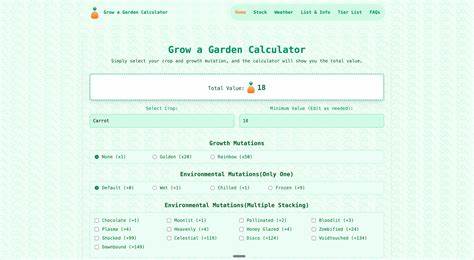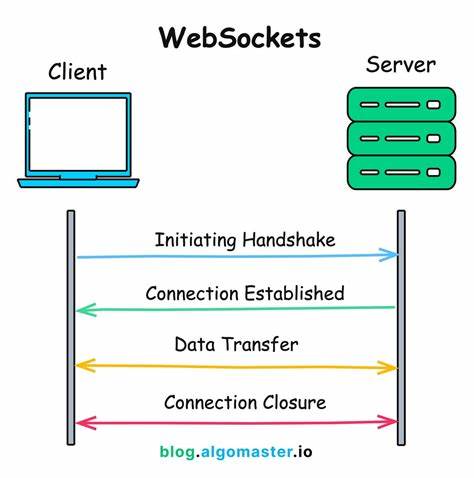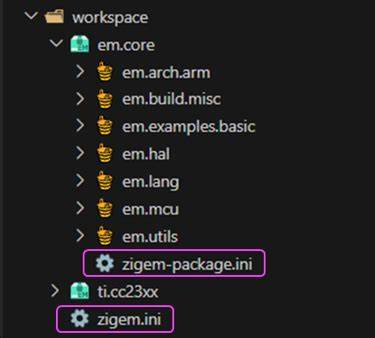Война — это состояние человеческого общества, которое сложно свести к одной простой причине или мотивации. В исторической перспективе множество конфликтов, в том числе затяжное противостояние с Ираном, не могут быть объяснены только идеологическими разногласиями между народами или вопросами распределения ресурсов. Современный взгляд на войну требует сложного, многогранного подхода, объединяющего психоанализ, геополитику и экономику. Понятие «телическая конвергенция», то есть слияние различных целенаправленных факторов, становится ключом к пониманию причин и природы современного конфликта с Ираном. Первое, что стоит отметить — война далеко не всегда подчиняется логике максимизации эффективности или экономического блага для участвующих сторон.
Теории, основанные на максимальном потреблении энергии или усилении власти, оказываются негибкими и неспособными объяснить очевидные парадоксы. История Ирака показала, что даже масштабные военные кампании не приносят значительной выгоды главенствующим державам, приводя только к огромным потерям и дестабилизации регионов. Американское вмешательство в Ирак обернулось миллионами погибших, разрушениями инфраструктуры и ростом террористических угроз, а долгосрочные геополитические цели оказались нереализованными. В этой связи важным фактором становится роль военно-промышленного комплекса, который, по мнению многих исследователей, является одним из немногих реальных бенефициаров постоянных конфликтов. Промышленность, связанная с обороной, питается непрекращающимися военными заказами, с выгодой для корпораций и политических групп влияния, которые стимулируют эффективное сохранение и развитие военных аппаратов, вместо поиска мирных решений.
Такое явление создает порочный круг, в котором экономические интересы концентрируются вокруг поддержания и эскалации конфликтов, невзирая на реальные человеческие и социальные потери. Одновременно современная геополитика США и их союзников носит сильный отпечаток так называемой «хантологии», концепции, введенной философом Жаком Деррида, описывающей длительное присутствие и влияние прошлого в настоящем. Противоречивые наследия Холодной войны, унионистские и милитаристские установки, неоконсервативные доктрины — все эти исторические призраки продолжают влиять на формирование внешней политики. Логика доминирования и постоянной борьбы с «врагом» не исчезла с окончанием СССР, а лишь трансформировалась в новые формы — борьбу с «терроризмом» и противостояние «ось зла». Война с Ираном становится одним из проявлений этой продолжающейся борьбы, подпитываемой страхами, идеологиями и выжившими нарративами прошлого.
Особое значение в конфликте с Ираном играют отношения между США и Израилем, чья роль не может быть переоценена. Израиль, наделенный мощной военной поддержкой и политическим влиянием в Вашингтоне, часто выступает союзником, продвигающим жесткие позиции в отношении Ирана. Анализ показывает, что за внешней риторикой борьбы с ядерной угрозой скрывается глубокое политическое и идеологическое единство, основанное на Общей исторической мифологии и стремлении к доминированию в регионе. Влияние Израильской лобби, особенно АИПАК, формирует политику Вашингтона и способствует поддержанию напряженного конфликта. Кроме того, значительная часть американской поддержки Израилю связана с присутствием в политической системе христианских сионистов — религиозных движений, для которых создание и существование Израиля представляет собой исполнение библейских пророчеств и предзнаменование Апокалипсиса.
Эта уникальная форма политического религиозного фанатизма оказывает большое давление на принятие решений, усиливая воинственную позицию и подогревая ожидание конца света через конфликты на Ближнем Востоке. Следует также учитывать влияние внутренней психоаналитической динамики на формирование политических лидеров и массового сознания. Современные тенденции гипермаскулинности, усиленные поражениями в экономике и культурной неуверенностью, приводят к ориентации на милитаризм и жесткие демонстрации власти как способ обрести утраченное чувство значимости и целеустремленности. Лидеры, подобные Дональду Трампу, выражают этот кризис через экспрессивные жесты, завышенное эго и жестокие амбиции, которые трансформируются в международные конфликты и агрессивную внешнюю политику. Не менее важным фактором выступает феномен возрождения крайних национализмов и религиозного фундаментализма, проявляющихся как внутри стран, так и в отношениях между государствами.
Террористические организации, воинствующие религиозные движения и радикальное насилие отражают эмоции отчаяния, несправедливости и отсутствия политических перспектив. Война с Ираном подпитывает эти тенденции, вызывая новую волну насилия и усиливая конфликты на международной арене. Экономическая составляющая конфликта также имеет весомое значение. Борьба за контроль над ресурсами, такими как нефть и газ, остается центральным элементом стратегии. Иран занимает стратегическое положение в Персидском заливе и контролирует важнейший морской проход — Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.
Контроль над этими зонами усиливает возможности влияния на мировые рынки энергоносителей, особенно на фоне глобального экономического кризиса и обострения конкуренции между крупными державами. Экономическая нестабильность, связанная с санкциями, внутренними проблемами и изменениями геополитической конъюнктуры, усиливает внутренние социальные напряжения в самой стране, создавая благодатную почву для дальнейших политических кризисов. Важной характеристикой современного конфликта является отсутствие единой, четко прослеживаемой логики или монолитной причины. Концепция телической конвергенции подчеркивает сложное переплетение множества факторов: исторических, культурных, экономических и психологических. Каждый из них самостоятельный и в то же время взаимосвязанный, накладываясь друг на друга, создавая общую картину, в которой невозможно однозначно выделить одного виновника или движущую силу.
Нарастающее противостояние между Ираном и Израилем подкрепляется также внутренними проблемами обеих стран. В Израиле политический кризис и экономические проблемы заставляют правительство использовать конфликты для мобилизации общества и отвлечения внимания от внутренних трудностей. В Иране же реформаторские настроения и стремления к демократизации сталкиваются с жестким контролем со стороны религиозного истеблишмента, внутренней коррупцией и экономическим давлением международных санкций. В таких условиях конфликт становится продолжением внутренней борьбы, внешним выражением глубоких общественных противоречий. На международном уровне война с Ираном — это аренА для противостояния глобальных держав, где каждая сторона стремится укрепить свои позиции через сложные дипломатические и военные маневры.
Россия, Китай и другие крупные игроки проявляют стратегическую осторожность, сохраняя баланс между публичной поддержкой Ирана и желанием избежать открытого конфликта с Западом. Такая многополярность добавляет напряженности и усложняет перспективы мирного урегулирования. В итоге, война с Ираном — это не просто борьба двух стран или региональный конфликт. Это сложное явление, в котором переплетены психологические установки лидеров, экономические интересы военных и корпораций, религиозные и идеологические мотивы, а также исторические травмы и геополитические амбиции. Понимание этой телической конвергенции помогает увидеть войну как результат множества пересекающихся тенденций, а не как предопределённую и оправданную силу.
Обозрению будущего положение дел в регионе мешает глубина и сложность этих взаимосвязей. Возможность длительного конфликта с разрушительными последствиями сохраняется, если международное сообщество не сумеет выйти за рамки старых стратегий и построить новые модели взаимодействия, основанные на признании многообразия интересов и стремлении к реальному миру. В этом смысле кризис с Ираном выступает как сигнал необходимости переосмысления подходов к мировой политике и поиска новых направлений, способных снизить напряженность и разрушительный потенциал войн.